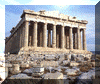Перевод С.П.Маркиша.
В кн.: Платон. С. с. в 3-х т. Т1. М.: "Мысль", 1968
ГОРГИЙ
(начало)
(Калликл, Сократ,
Херефонт, Горгий, Пол )
Калликл. {447} На войну и на битву, как
уверяют, долгие сборы, Сократ!
Сократ. А что, разве мы, так сказать,
опоздали к празднику?
Калликл. Да еще к какому изысканному
празднику! Только что Горгий так блеснул перед нами своим
искусством!
Сократ. Всему виною, Калликл, наш Херефонт:
из-за него мы замешкались на рынке. {B}
Херефонт. Не беда, Сократ, я же все и
поправлю1. Ведь Горгий мне приятель, и он покажет нам
свое искусство, если угодно, сейчас же, а хочешь — в другой раз.
Калликл. Как, Херефонт? Сократ желает
послушать Горгия?
Херефонт. Для того-то мы и здесь.
Калликл. Если так, то приходите, когда
надумаете, ко мне домой: Горгий остановился у меня, и вы его
услышите. {C}
Сократ. Отлично, Калликл. Но не согласится
ли он побеседовать с нами? Я хотел бы расспросить этого человека, в
чем суть его искусства и чему именно обещает он научить. А остальное
— образцы искусства — пусть покажет в другой раз, как ты и
предлагаешь.
Калликл. Нет ничего лучше, как спросить
его самого, Сократ. То, о чем ты говоришь, было одним из условий его
выступления: он предлагал всем собравшимся задавать ему вопросы,
какие кто пожелает, и обещал ответить на все подряд.
Сократ. Прекрасно! Херефонт, спроси его!
{D}
Херефонт. Что спросить?
Сократ. Кто он такой.
Херефонт. Что ты имеешь в виду?
Сократ. Ну, вот если бы он оказался
мастеровым, который шьет обувь, то, наверно, ответил бы тебе, что он
сапожник. Разве ты не понимаешь, о чем я говорю?
Херефонт. Понимаю и сейчас спрошу. Скажи
мне, Горгий, правильно говорит Калликл, что ты обещаешь {448}
ответить на любой вопрос?
Горгий. Правильно, Херефонт. Как раз это я
только что и обещал, и я утверждаю, что ни разу за много лет никто
не задал мне вопроса, который бы меня озадачил.
Херефонт. Тогда, конечно, ты легко
ответишь мне, Горгий.
Горгий. Можешь испытать меня. Херефонт.
Пол. Клянусь Зевсом, Херефонт, испытывай,
пожалуйста, меня! Горгий, мне кажется, сильно утомился: ведь он
сейчас держал такую длинную речь.
Херефонт. Что ты, Пол? Ты думаешь ответить
лучше Горгия?
Пол. Какая тебе разница? Лишь бы ты
остался доволен. {B}
Херефонт. И правда, никакой. Ну, если
желаешь, отвечай ты.
Пол. Спрашивай.
Херефонт. Да, так вот мой вопрос.
Допустим, Горгий был бы сведущ в том же искусстве2, что
его брат Геродик, — как бы нам тогда следовало его называть? Так же,
как брата, верно?
Пол. Совершенно верно.
Херефонт. Значит, если бы мы сказали, что
он врач, мы бы не ошиблись?
Пол. Нет.
Херефонт. А если бы он был опытен в
искусстве Аристофонта, сына Аглаофонта, или его брата3,
как бы мы тогда его называли?
Пол. Ясное дело — живописцем. {C}
Херефонт. Так в каком же искусстве сведущ
Горгий и как нам его называть, чтобы не ошибиться?
Пол. Милый мой Херефонт, люди владеют
многими искусствами, искусно открытыми в опыте4. Ты
опытен — и дни твои направляет искусство, неопытен — и они катятся
по прихоти случая. Меж всеми этими искусствами разные люди избирают
разное в разных целях, но лучшие избирают лучшее. К лучшим
принадлежит и наш Горгий, который причастен самому прекрасному из
искусств.
Сократ. Я вижу, Горгий, что Пол прекрасно
{D} подготовлен к словесным стычкам. Но слова, которое дал
Херефонту, он не держит.
Горгий. В чем же именно, Сократ?
Сократ. Мне кажется, он вовсе не ответил
на вопрос.
Горгий. Тогда спрашивай его ты, если
хочешь.
Сократ. Не хочу — я надеюсь, ты
согласишься отвечать сам. Мне было бы гораздо приятнее спрашивать
тебя, потому что, как ни мало говорил Пол, а уже ясно, что он больше
искушен в так называемой риторике, чем в уменье вести беседу.
Пол. С чего ты это взял, Сократ? {E}
Сократ. А с того, Пол, что Херефонт
спрашивал тебя, в каком искусстве сведущ Горгий, ты же принялся
восхвалять это искусство, как будто кто-то его поносит, но что это
за искусство, так и не ответил.
Пол. Разве я не сказал, что оно самое
прекрасное из всех?
Сократ. Да, сказал, но никто не спрашивал,
каково искусство Горгия, — спрашивали, что за искусство и как нужно
Горгия называть. На все прежнее, что {449} предлагал тебе Херефонт,
ты отвечал хорошо и кратко — вот так и теперь объясни, что это за
искусство и каким именем мы должны называть Горгия. А еще лучше,
Горгий, скажи нам сам, в каком искусстве ты сведущ и как, стало
быть, нам тебя называть.
Горгий. В ораторском искусстве, Сократ.
Сократ. Значит, называть тебя надо
“оратором”?
Горгий. И хорошим, Сократ, если желаешь
называть меня тем именем, каким, как говорится у Гомера, “я хвалюсь”5.
Сократ. Да, да, желаю.
Горгий. Тогда зови.
Сократ. А скажем ли мы, что ты и другого
способен сделать оратором? {B}
Горгий. Это я и предлагаю — и не только
здесь, но повсюду.
Сократ. Не согласился ли бы ты, Горгий,
продолжать беседу так же, как мы ведем ее теперь, чередуя вопросы с
ответами, а эти долгие речи, какие начал было Пол, оставить до
другого раза? Только будь верен своему обещанию и, пожалуйста,
отвечай кратко. {C}
Горгий. Бывает, Сократ, когда пространные
ответы неизбежны. Тем не менее я постараюсь быть как можно более
кратким, потому что этим я также горжусь: никому не превзойти меня в
краткости выражений.
Сократ. Это-то нам и нужно, Горгий! Покажи
мне свою немногословность, а многословие покажешь в другой раз.
Горгий. Хорошо, и ты признаешь, что
никогда не слыхал никого, кто был бы скупее на слова.
Сократ. Стало быть, начнем. Ты говоришь,
что {D} ты и сам сведущ в красноречии, и берешься другого сделать
оратором. Но в чем же, собственно, состоит это искусство? Вот
ткачество, например, состоит в изготовлении плащей. Так я говорю?
Горгий. Да.
Сократ. А музыка — в сочинении напевов?
Горгий. Да.
Сократ. Клянусь Герой, Горгий, я восхищен
твоими ответами: ты отвечаешь как нельзя короче!
Горгий. Да, Сократ, я полагаю, это выходит
у меня совсем недурно.
Сократ. Ты прав. Теперь, пожалуйста,
ответь мне так же точно насчет красноречия: это опытность в чем? {E}
Горгий. В речах.
Сократ. В каких именно, Горгий? Не в тех
ли, что указывают больным образ жизни, которого надо держаться,
чтобы выздороветь?
Горгий. Нет.
Сократ. Значит, красноречие заключено не
во всяких речах?
Горгий. Конечно, нет.
Сократ. Но оно дает уменье говорить.
Горгий. Да.
Сократ. И значит, размышлять о том, о чем
говоришь?
Горгий. Как же иначе! {450}
Сократ. А искусство врачевания, которое мы
сейчас только упоминали, не выучивает ли оно размышлять и говорить о
больных?
Горгий. Несомненно.
Сократ. Значит, по всей вероятности,
врачевание — это тоже опытность в речах.
Горгий. Да.
Сократ. В речах о болезнях?
Горгий. Бесспорно.
Сократ. Но ведь и гимнастика занимается
речами — о хорошем или же дурном состоянии тела, не правда ли?
Горгий. Истинная правда.
Сократ. И остальные искусства, Горгий,
совершенно {B} так же: каждое из них занято речами о вещах,
составляющих предмет этого искусства.
Горгий. Кажется, так.
Сократ. Почему же тогда ты не зовешь
“красноречиями” остальные искусства, которые тоже заняты речами, раз
ты обозначаешь словом “красноречие” искусство, занятое речами?
Горгий. Потому, Сократ, что в остальных
искусствах почти вся опытность относится к ручному труду и другой
подобной деятельности, а в красноречии ничего похожего на ручной
труд нет, но вся его деятельность и вся сущность заключены в речах.
Вот почему я {C} утверждаю, что красноречие — это искусство,
состоящее в речах, и утверждаю правильно, на мой взгляд.
Сократ. Ты думаешь, теперь я понял, что ты
разумеешь под словом “красноречие”? Впрочем, сейчас разгляжу яснее.
Отвечай мне: мы признаем, что существуют искусства, верно?
Горгий. Верно.
Сократ. Все искусства, по-моему, можно
разделить так: одни главное место отводят работе и в речах нуждаются
мало, а иные из них и вовсе не нуждаются — они могут исполнять свое
дело даже в полном молчании, как, например, живопись, ваяние и
многие другие. Ты, наверно, об этих искусствах говоришь, что {D}
красноречие не имеет к ним никакого отношения? Или же нет?
Горгий. Ты прекрасно меня понимаешь,
Сократ.
Сократ. А другие искусства достигают всего
с помощью слова, в деле же, можно сказать, нисколько не нуждаются
либо очень мало, как, например, арифметика, искусство счета,
геометрия, даже игра в шашки6 и многие иные, среди
которых одни пользуются словом и делом почти в равной мере, в
некоторых же — и этих больше — слово перевешивает и вся решительно
их сила и вся суть обнаруживаются в слове. К ним, наверно, {E} ты и
относишь красноречие.
Горгий. Ты прав.
Сократ. Но я думаю, ни одно из
перечисленных мною искусств ты не станешь звать красноречием, хоть и
сам сказал, что всякое искусство, сила которого обнаруживается в
слове, есть красноречие, и, стало быть, если бы кто пожелал
придраться к твоим словам, то мог бы и возразить: “Значит,
арифметику, Горгий, ты объявляешь красноречием?” Но я думаю, ты не
объявишь {451} красноречием ни арифметику, ни геометрию.
Горгий. И верно думаешь, Сократ. Так оно и
есть.
Сократ. Тогда, пожалуйста, если уж ты
начал мне отвечать, говори до конца. Раз красноречие оказывается
одним из тех искусств, которые преимущественно пользуются словом, и
раз оказывается, что существуют и другие искусства подобного рода,
попробуй определить: на что должна быть направлена скрывающаяся в
речах сила, чтобы искусство было красноречием? Если бы кто спросил
меня о любом из искусств, которые мы сейчас называли, например:
“Сократ, что такое искусство арифметики?” — я бы ответил вслед {B}
за тобою, что это одно из искусств, обнаруживающих свою силу в
слове. А если бы дальше спросили: “На что направлена эта сила?” — я
бы сказал, что на познание четных и нечетных чисел, какова бы ни
была их величина. Если спросили бы: “А искусством счета ты что
называешь?” — я бы сказал, что и оно из тех искусств, которые всего
достигают словом. И если бы еще спросили: “На что же оно
направлено?” — я ответил бы наподобие тех, кто предлагает новые {C}
законы в Народном собрании7, что во всем прочем искусство
счета одинаково с арифметикой: ведь оно обращено на то же самое, на
четные и нечетные числа, отличается же лишь тем, что и в четном, и в
нечетном старается установить величину саму по себе и в ее отношении
к другим величинам. И если бы кто стал спрашивать про астрономию, а
я бы сказал, что и она всего достигает словом, а меня бы спросили:
“Но речи астрономии на что направлены, Сократ?” — я ответил бы, что
на движение звезд. Солнца, Луны и на то, в каком отношении друг к
другу находятся их скорости.
Горгий. Это был бы верный ответ, Сократ.
{D}
Сократ. Ну, теперь твой черед, Горгий.
Значит, красноречие принадлежит к тем искусствам, которые все
совершают и всего достигают словом. Не так ли?
Горгий. Так.
Сократ. А на что оно направлено? Что это
за предмет, на который направлены речи, принадлежащие этому
искусству?
Горгий. Это самое великое, Сократ, и самое
прекрасное из всех человеческих дел.
Сократ. Ах, Горгий, ты снова отвечаешь
уклончиво и недостаточно ясно. Тебе, наверно, приходилось {E}
слышать на пирушках, как поют круговую застольную песню8,
перечисляя так: всего лучше здоровье, потом — красота, потом, по
слову поэта, сочинившего песню, “честно нажитое богатство”.
Горгий. Да, приходилось. Но к чему ты
клонишь?
Сократ. А к тому, что против тебя тотчас
же выступят {452} создатели благ, которые прославил сочинитель
песни, а именно врач, учитель гимнастики и делец, и первым станет
говорить врач. “Сократ, — скажет он, — Горгий обманывает тебя: не
его искусство направлено на величайшее для людей благо, а мое”. И
если бы я тогда спросил его: “А сам-то ты кто? Почему ведешь такие
речи?” — он бы, верно, ответил: “Я врач”. — “Как же тебя понимать?
Так, что плод твоего искусства есть величайшее благо?” — “А как же
иначе, Сократ, — возразил бы он, верно, — ведь это — здоровье! Есть
ли у людей благо дороже здоровья?” После врача {B} заговорит учитель
гимнастики: “Я бы тоже удивился, Сократ, если бы Горгий доказал
тебе, что своим искусством он творит большее благо, чем я — своим”.
И его я спросил бы: “Кто ты таков, мой любезный, и какое твое
занятие?” — “Я учитель гимнастики, — сказал бы он, — а мое занятие —
делать людей красивыми и сильными телом”. После учителя в разговор
вступил бы делец, полный, как мне кажется, пренебрежения {C} ко всем
подряд: “Смотри, Сократ, найдешь ли ты у Горгия или еще у кого
угодно благо большее, чем богатство”. И я бы ему сказал: “Выходит,
что ты создатель богатства?” — “Да”. — “А твое звание?” — “Я делец”.
— “Так что же, — скажем мы, — ты думаешь, что величайшее для людей
благо — это богатство?” — “Ну, разумеется!” — скажет он. “Но вот
Горгий утверждает, что его искусство по сравнению с твоим — источник
большего блага”, — возразили бы мы. Тут он, конечно, в ответ: “А что
это за благо? Пусть Горгий {D} объяснит”. Так считай, Горгий, что
тебя спрашивают не только они, но и я, и объясни, что ты имеешь в
виду, говоря о величайшем для людей благе и называя себя его
создателем.
Горгий. То, что поистине составляет
величайшее благо и дает людям как свободу, так равно и власть над
другими людьми, каждому в своем городе.
Сократ. Что же это, наконец?
Горгий. Способность убеждать словом и
судей {E} в суде, и советников в Совете, и народ в Народном
собрании, да и во всяком ином собрании граждан. Владея такою силой,
ты и врача будешь держать в рабстве, и учителя гимнастики, а что до
нашего дельца, окажется, что он не для себя наживает деньги, а для
другого — для тебя, владеющего словом и уменьем убеждать толпу.
{453}
Сократ. Вот сейчас ты, Горгий, по-моему,
ближе всего показал, что ты понимаешь под красноречием, какого рода
это искусство; если я не ошибаюсь, ты утверждаешь, что оно — мастер
убеждения: в этом вся его суть и вся забота. Или ты можешь сказать,
что красноречие способно на что-то большее, чем вселять убеждение в
души слушателей?
Горгий. Нет, нет, Сократ, напротив,
по-моему, ты определил вполне достаточно: как раз в этом его суть.
Сократ. Тогда слушай, Горгий. Я убежден —
не {B} скрою от тебя, — что если есть на свете люди, которые ведут
беседы, желая понять до конца, о чем идет речь, то я один из их
числа. Полагаю, и ты тоже.
Горгий. Что ж из того, Сократ?
Сократ. Сейчас объясню. Ты говоришь об
убеждении, которое создается красноречием, но что это за убеждение и
каких вещей оно касается, — не скрою от тебя, — мне недостаточно
ясно. Правда, мне кажется, я догадываюсь, о чем ты говоришь и что
имеешь в виду, и все же я спрошу тебя, как ты понимаешь это
убеждение, порождаемое красноречием, и к чему оно {C} применимо.
Чего ради, однако, спрашивать тебя, а не высказаться самому, раз уж
я и так догадываюсь? Не ради тебя, но ради нашего рассуждения: пусть
оно идет так, чтобы его предмет сделался для нас как можно более
ясным. Впрочем, смотри, не сочтешь ли ты неуместными мои расспросы.
Если бы, например, я спросил у тебя, что за живописец Зевксид, а ты
бы ответил, что он пишет картины, разве не к месту спросил бы я
дальше, какие он пишет картины и где?
Горгий. Очень даже к месту. {D}
Сократ. Потому, конечно, что существуют
другие живописцы, которые пишут много других картин?
Горгий. Да.
Сократ. Но если бы, кроме Зевксида9,
никто другой не писал, твой ответ был бы правильный?
Горгий. Как же иначе!
Сократ. Теперь скажи мне и насчет
красноречия. Кажется ли тебе, что убеждение создается одним
красноречием или же и другими искусствами тоже? Я объясню свой
вопрос. Если кто учит чему-нибудь, убеждает он в том, чему учит, или
нет?
Горгий. Разумеется, Сократ, убеждает лучше
всякого другого! {E}
Сократ. Тогда вернемся к тем искусствам, о
которых мы недавно говорили. Искусство арифметики не учит ли нас
свойствам числа? И человек, сведущий в этом искусстве, — так же
точно?
Горгий. Непременно.
Сократ. А значит, и убеждает?
Горгий. Да.
Сократ. Стало быть, мастером убеждения
оказывается и это искусство тоже?
Горгий. По-видимому.
Сократ. Значит, если нас спросят: “Какого
убеждения {454} и на что оно направлено?” — мы, вероятно, ответим:
“Поучающего, что такое четные и нечетные числа и каковы их
свойства”. Значит, и остальные искусства, о которых говорилось
раньше, все до одного, мы назовем мастерами убеждения и покажем, что
это за убеждение и на что направлено. Ты согласен?
Горгий. Да.
Сократ. Стало быть, красноречие не
единственный мастер убеждения.
Горгий. Да, верно.
Сократ. Но если оно не одно производит
такое действие, а другие искусства тоже, мы могли бы теперь точно
так же, как раньше насчет живописца, задать {B} своему собеседнику
справедливый вопрос: красноречие — это искусство убеждения10,
но какого убеждения и на что оно направлено? Или же такой вопрос
кажется тебе неуместным?
Горгий. Нет, отчего же.
Сократ. Тогда отвечай, Горгий, раз и ты
того же мнения.
Горгий. Я говорю о таком убеждении,
Сократ, которое действует в судах и других сборищах (как я только
сейчас сказал), а его предмет — справедливое и несправедливое10.
Сократ. Я, конечно, догадывался, Горгий,
что именно о таком убеждении ты говоришь и что именно так оно
направлено. Но я хотел предупредить тебя, чтобы ты не удивлялся,
когда немного спустя я снова спрошу тебя о том, что, казалось бы,
совершенно ясно, а я все-таки спрошу: ведь, повторяю еще раз, я
задаю {C} вопросы ради последовательного развития нашей беседы, не к
твоей невыгоде, а из опасения, как бы у нас не вошло в привычку
перебивать друг друга и забегать вперед. Я хочу, чтобы ты довел свое
рассуждение до конца, как сам найдешь нужным, по собственному
замыслу.
Горгий. По-моему, прекрасное намерение,
Сократ.
Сократ. Тогда давай рассмотрим еще вот
что. Знакомо ли тебе слово “узнать”?
Горгий. Знакомо. {D}
Сократ. Ну, что ж, а “поверить”?
Горгий. Конечно.
Сократ. Кажется ли тебе, что это одно и то
же — “узнать” и “поверить”, “знание” и “вера”11 — или же
что они как-то отличны?
Горгий. Я думаю, Сократ, что отличны.
Сократ. Правильно думаешь, и вот тебе
доказательство. Если бы тебя спросили: “Бывает ли, Горгий, вера
истинной и ложной?” — ты бы, я полагаю, ответил, что бывает.
Горгий. Да.
Сократ. Ну, а знание? Может оно быть
истинным и ложным?
Горгий. Никоим образом!
Сократ. Стало быть, ясно, что это не одно
и то же.
Горгий. Ты прав. {E}
Сократ. А между тем убеждением обладают и
узнавшие, и поверившие.
Горгий. Правильно.
Сократ. Может быть, тогда установим два
вида убеждения: одно — сообщающее веру без знания, другое — дающее
знание?
Горгий. Прекрасно.
Сократ. Какое же убеждение создается
красноречием в судах и других сборищах о делах справедливых и
несправедливых? То, из которого возникает вера без {455} знания или
из которого знание?
Горгий. Ясно, Сократ, что из которого
вера.
Сократ. Значит, красноречие — это мастер
убеждения, внушающего веру в справедливое и несправедливое, а не
поучающего, что справедливо, а что нет.
Горгий. Так оно и есть.
Сократ. Значит, оратор в судах и других
сборищах не поучает, что справедливо, а что нет, но лишь внушает
веру, и только. Ну, конечно, ведь толпа не могла бы постигнуть столь
важные вещи за такое малое время. {B}
Горгий. Да, конечно.
Сократ. Давай же поглядим внимательно, что
мы, собственно, понимаем под красноречием: ведь я и сам еще не могу
толком разобраться в своих мыслях. Когда граждане соберутся, чтобы
выбрать врача, или корабельного мастера, или еще какого-нибудь
мастера, станет ли тогда оратор подавать советы? Разумеется, не
станет, потому что в каждом таком случае надо выбирать самого
сведущего в деле человека. И так же точно, когда нужно соорудить
стены, или пристани, или корабельные верфи, требуется совет не
ораторов, а строителей. А когда совещаются, кого выбрать в стратеги
— для встречи ли с неприятелем в открытом бою, для захвата ли
крепости, — опять советы подают не ораторы, а люди сведущие в
военном {C} искусстве. Что ты на это скажешь, Горгий? Раз ты и себя
объявляешь оратором, и других берешься выучить красноречию, кого же
еще, как не тебя, расспрашивать о свойствах твоего искусства? И
прими в расчет, что я хлопочу теперь и о твоей личной выгоде. Может,
кто-нибудь из тех, кто здесь собрался, хочет поступить к тебе в
ученики — нескольких я уже замечаю, а пожалуй, и довольно многих, —
но, может быть, они не решаются обратиться к тебе с вопросом. Так
{D} считай, что вместе со мною тебя спрашивают и они: “Какую пользу,
Горгий, мы извлечем из твоих уроков? Насчет чего сможем мы подавать
советы государству? Только ли насчет справедливого и несправедливого
или же и насчет того, о чем сейчас говорил Сократ?” Постарайся им
ответить.
Горгий. Да, я постараюсь, Сократ, открыть
тебе доподлинно всю силу красноречия. Тем более что ты сам навел
меня на правильный путь. Ты, бесспорно, знаешь, что и эти верфи, о
которых была речь, и афинские стены, и пристани12
сооружены по совету Фемистокла13 {E} и отчасти Перикла14,
а совсем не знатоков строительного дела.
Сократ. Верно, Горгий, про Фемистокла
ходят такие рассказы, а Перикла я слышал и сам, когда он советовал
нам сложить внутренние стены.
Горгий. И когда случаются выборы, — одни
из тех, {456} о которых ты сейчас только говорил, Сократ, — ты,
конечно, видишь, что советы подают ораторы и в спорах побеждают их
мнения.
Сократ. Это меня и изумляет, Горгий, и
потому я снова спрашиваю, что за сила в красноречии. Какая-то
божественно великая сила чудится мне, когда я о нем размышляю.
Горгий. Если бы ты знал все до конца,
Сократ! Ведь оно собрало и держит в своих руках, можно сказать, {B}
силы всех [искусств]! Сейчас я приведу тебе очень убедительное
доказательство.
Мне часто случалось вместе с братом и другими
врачами посещать больных, которые либо не хотели пить лекарство,
либо никак не давались врачу делать разрез или прижигание, и вот
врач оказывался бессилен их убедить, а я убеждал, и не иным каким
искусством, а одним только красноречием. Далее, я утверждаю, что
если бы в какой угодно город прибыли оратор и врач и если бы в
Народном собрании или в любом ином собрании зашел спор, кого из
двоих выбрать врачом, то на врача никто бы и смотреть не стал, а
выбрали бы того, кто владеет словом, — стоило бы ему {C} только
пожелать. И в состязании с любым другим знатоком своего дела оратор
тоже одержал бы верх, потому что успешнее, чем любой другой, убедил
бы собравшихся выбрать его и потому что не существует предмета, о
котором оратор не сказал бы перед толпою убедительнее, чем любой из
знатоков своего дела. Вот какова сила моего искусства и его
возможности.
Но к красноречию, Сократ, надо относиться так же,
как ко всякому прочему средству состязания. Ведь {D} и другие
средства состязания не обязательно обращать против всех людей подряд
по той лишь причине, что ты выучился кулачному бою, борьбе15,
обращению с оружием, став сильнее и друзей, и врагов, — не
обязательно по этой причине бить друзей, увечить их и убивать. Так
же точно, если кто будет долго ходить в пелестру16 и
закалится телом и станет опытным кулачным бойцом, а потом поколотит
отца и мать или кого еще из родичей или друзей, не нужно, клянусь
{E} Зевсом, по этой причине преследовать ненавистью и отправлять в
изгнание учителей гимнастики и всех тех, кто учит владеть оружием.
Ведь они передали свое уменье ученикам, чтобы те пользовались им по
справедливости — против врагов и преступников, для защиты, а не для
нападения; те же пользуются своей {457} силою и своим искусством
неправильно — употребляют их во зло. Стало быть, учителей нельзя
называть негодяями, а искусство винить и называть негодным по этой
причине; негодяи, по-моему, те, кто им злоупотребляет.
То же рассуждение применимо и к красноречию.
Оратор способен выступать против любого противника и по любому
поводу так, что убедит толпу скорее всякого другого; короче говоря,
он достигнет всего, чего {B} ни пожелает. Но вовсе не следует по
этой причине отнимать славу ни у врача (хотя оратор и мог бы это
сделать), ни у остальных знатоков своего дела. Нет, и красноречием
надлежит пользоваться по справедливости, так же как искусством
состязания. Если же кто-нибудь, став оратором, затем злоупотребит
своим искусством и своей силой, то не учителя надо преследовать
ненавистью и изгонять из города: ведь он передал {C} свое умение
другому для справедливого пользования, а тот употребил его с
обратным умыслом. Стало быть и ненависти, и изгнания, и казни по
справедливости заслуживает злоумышленник, а не его учитель.
Сократ. Я полагаю, Горгий, ты, как и я,
достаточно опытен в беседах, и вот что тебе случалось, конечно,
замечать. Если двое начнут что-нибудь обсуждать, то нечасто бывает,
чтобы, высказав свое суждение {D} и усвоив чужое, они пришли к
согласному определению и на том завершили разговор, но обычно они
разойдутся во взглядах, и один скажет другому, что тот выражается
неверно или неясно, и вот уже оба разгневаны и каждый убежден, будто
другой в своих речах руководится лишь недоброжелательством и
упорством, а о предмете исследования не думает вовсе. Иные в конце
концов расстаются самым отвратительным образом, осыпав друг друга
бранью и обменявшись такими оскорблениями, что даже присутствующим
становится досадно, но только на себя самих: зачем вызвались слушать
подобных людей?
К чему, однако ж, эти слова? Видишь ли, мне
кажется, ты теперь говоришь о красноречии не вполне сообразно и
созвучно тому, как говорил сначала. И вот я боюсь тебя опровергать —
боюсь, как бы ты не решил, что я стараюсь просто-напросто
переспорить тебя, а {458} не выяснить существо дела. Если ты
принадлежишь к той же породе людей, что и я, тогда я охотно продолжу
свои расспросы, если же нет, я бы предпочел на этом закончить.
Что же это за люди, к которым я принадлежу? Они
охотно выслушивают опровержения, если что-нибудь скажут неверно, и
охотно опровергают другого, если тот что скажет неверно, и притом
второе доставляет им не больше удовольствия, чем первое. В самом
деле, первое {B} я считаю большим благом, настолько же большим,
насколько лучше самому избавиться от величайшего зла, чем избавить
другого. Но по-моему, нет для человека зла опаснее, чем ложное
мнение17 о том, что стало предметом нынешней нашей
беседы.
Ну вот, если и ты причисляешь себя к таким людям,
продолжим наш разговор. Если же тебе кажется, что его лучше
прекратить, давай прекратим и оставим все как есть.
Горгий. Нет, Сократ, ведь я и сам именно
такой, как ты сейчас изобразил. Но пожалуй, надо и о присутствующих
подумать. Я долго выступал перед ними еще до того, как пришли вы, и
теперь, {C} пожалуй, мы затянем дело надолго, если продолжим наш
разговор. Так что надо нам и о них позаботиться — как бы кого не
задержать, если у них есть еще дела.
Херефонт. Разве вы сами, Горгий и Сократ,
не слышите громких похвал этих людей, которые хотят узнать, что вы
скажете дальше? Мне по крайней мере было бы очень досадно, если бы
случилась надобность настолько важная, чтобы оторвать меня от такой
беседы {D} и таких собеседников ради неотложного дела!
Калликл. Да, Херефонт, клянусь богами, я
тоже был свидетелем достаточно многих бесед, но едва ли хоть раз
испытывал столько удовольствия, сколько теперь. По мне, говорите
хоть весь день — сделайте одолжение!
Сократ. Ну, что ж, Калликл, с моей стороны
препятствий нет, если только Горгий согласен.
Горгий. Для меня теперь было бы позором не
согласиться, Сократ, после того как я сам вызвался отвечать на любые
вопросы, какие кто ни задаст. Раз присутствующие не возражают,
продолжай разговор и {E} спрашивай что хочешь.
Сократ. Тогда выслушай, Горгий, что в
твоих утверждениях меня изумляет. Возможно, впрочем, что говоришь ты
верно, да я неверно понимаю. Ты утверждаешь, что способен сделать
оратором всякого, кто пожелает у тебя учиться?
Горгий. Да.
Сократ. Но конечно, так, что в любом деле
он приобретет {459} доверие толпы не наставлением, а убеждением?
Горгий. Совершенно верно.
Сократ. Ты утверждал только сейчас, что и
в делах, касающихся здоровья, оратор приобретет больше доверия, чем
врач.
Горгий. Да, у толпы.
Сократ. Но “у толпы” — это, конечно,
значит у невежд? Потому что у знатоков едва ли он найдет больше
доверия, нежели врач.
Горгий. Ты прав.
Сократ. Если он встретит большее доверие,
чем врач, это, значит, — большее, чем знаток своего дела?
Горгий. Разумеется.
Сократ. Не будучи при этом врачом, так?
Горгий. Да.
Сократ. А не-врач, понятно, не знает того,
что {B} знает врач.
Горгий. Очевидно.
Сократ. Стало быть, невежда найдет среди
невежд больше доверия, чем знаток: ведь оратор найдет больше
доверия, чем врач. Так выходит или как-нибудь по-иному?
Горгий. Выходит так — в этом случае.
Сократ. Но и в остальных случаях перед
любым иным искусством оратор и ораторское искусство пользуются таким
же преимуществом. Знать существо дела красноречию нет никакой нужды,
надо только отыскать какое-то средство убеждения, чтобы казаться
невеждам большим знатоком, чем истинные знатоки. {C}
Горгий. Не правда ли, Сократ, какое
замечательное удобство: из всех искусств изучаешь одно только это и,
однако ж, нисколько не уступаешь мастерам любого дела!
Сократ. Уступает ли оратор прочим
мастерам, ничему иному не учась, или же не уступает, мы рассмотрим
вскоре, если того потребует наше рассуждение. А сперва давай
посмотрим: что, в справедливом и несправедливом, {D} безобразном и
прекрасном, добром и злом оратор так же несведущ, как в здоровье и в
предметах остальных искусств, то есть существа дела не знает — что
такое добро и что зло, прекрасное или безобразное, справедливое или
несправедливое, — но и тут владеет средством убеждения и потому, сам
невежда, кажется другим невеждам большим знатоком, чем настоящий
знаток? Или это знать ему необходимо, и кто намерен {E} учиться
красноречию, должен приходить к тебе, уже заранее обладая знаниями?
А нет, так ты, учитель красноречия, ничему из этих вещей новичка,
конечно, не выучишь — твое дело ведь другое! — но устроишь так, что,
не зная, толпе он будет казаться знающим, будет казаться добрым, не
заключая в себе добра? Или же ты вообще не сможешь выучить его
красноречию, если он заранее не будет знать истины обо всем этом?
Или все обстоит как-то по-иному, Горгий? Ради Зевса, открой {460} же
нам, наконец, как ты только что обещал, что за сила у красноречия!
Горгий. Я так полагаю, Сократ, что если
[ученик] всего этого не знает, он выучится от меня и этому.
Сократ. Прекрасно! Задержимся на этом.
Если ты готовишь кого-либо в ораторы, ему необходимо узнать, что
такое справедливое и несправедливое, либо заранее, либо
впоследствии, выучив с твоих слов.
Горгий. Конечно.
Сократ. Двинемся дальше. Тот, кто изучил
строительное {B} искусство, — строитель или нет?
Горгий. Строитель.
Сократ. А музыку — музыкант?
Горгий. Да.
Сократ. А искусство врачевания — врач? И с
остальными искусствами точно так же: изучи любое из них — и станешь
таков, каким тебя сделает приобретенное знание?
Горгий. Конечно.
Сократ. Значит, таким же точно образом,
кто изучил, что такое справедливость, — справедлив?
Горгий. Вне всякого сомнения!
Сократ. А справедливый, видимо, поступает
справедливо?
Горгий. Да.
Сократ. Значит, человеку, изучившему
красноречие, {C} необходимо быть справедливым, а справедливому —
стремиться лишь к справедливым поступкам.
Горгий. По-видимому.
Сократ. Стало быть, справедливый человек
никогда не захочет совершить несправедливость?
Горгий. Никогда.
Сократ. А человеку, изучившему
красноречие, необходимо — на том же основании — быть справедливым.
Горгий. Да.
Сократ. Стало быть, оратор никогда не
пожелает совершить несправедливость. {D}
Горгий. Кажется, нет.
Сократ. Ты помнишь, что говорил немного
раньше, — что не следует ни винить, ни карать изгнанием учителей
гимнастики, если кулачный боец не по справедливости пользуется своим
умением биться на кулаках? И равным образом, если оратор пользуется
своим красноречием не по справедливости, следует винить и карать
изгнанием не его наставника, а самого нарушителя справедливости,
который дурно воспользовался своим искусством. Было это сказано или
не было?
Горгий. Было. {E}
Сократ. А теперь обнаруживается, что этот
самый человек, изучивший красноречие, вообще не способен совершить
несправедливость. Верно?
Горгий. Кажется, верно.
Сократ. В начале нашей беседы, Горгий, мы
говорили, что красноречие применяется к рассуждениям о справедливом
и несправедливом, а не о четных и нечетных числах. Так?
Горгий. Да.
Сократ. Слушая тебя тогда, я решил, что
красноречие ни при каких условиях не может быть чем-то
несправедливым, раз оно постоянно ведет речи о справедливости. Когда
же ты немного спустя сказал, что {461} оратор способен
воспользоваться своим красноречием и вопреки справедливости, я
изумился, решив, что эти утверждения звучат несогласно друг с
другом, и потому-то предложил тебе: если выслушать опровержение для
тебя — прибыль, как и для меня, разговор стоит продолжать, если же
нет — лучше его оставить. Но, продолжая наше исследование, мы, как
сам видишь, снова должны допустить, что человек, сведущий в
красноречии, не способен ни пользоваться своим искусством вопреки
справедливости, ни стремиться к несправедливым поступкам. Каково же
истинное положение дел... клянусь собакой, Горгий, долгая требуется
{B} беседа, чтобы выяснить это как следует.
Пол. Да что ты, Сократ! Неужели ты так и
судишь о красноречии, как теперь говоришь? Горгий постеснялся не
согласиться с тобою в том, что человек, искушенный в красноречии, и
справедливое знает, и прекрасное, и доброе, и, если приходит ученик,
всего этого не знающий, так он сам его научит, и отсюда в
рассуждении возникло какое-то противоречие, — а ты и {C} радуешься,
запутав собеседника своими вопросами, и воображаешь, будто хоть
кто-нибудь согласится, что он и сам не знает справедливости и
другого научить не сможет? Но это очень невежливо — так направлять
разговор!
Сократ. Милейший мой Пол! Для того-то как
раз и обзаводимся мы друзьями и детьми, чтобы, когда, состарившись,
начнем ошибаться, вы, молодые, были бы рядом и поправляли бы
неверные наши речи и поступки. {D} Вот и теперь, если мы с Горгием в
чем-то ошиблись, ведя свои речи, — ты рядом, ты нас и поправь (это
твой долг!), а я, раз тебе кажется, будто кое в чем мы согласились
неверно, охотно возьму назад любое свое суждение — при
одном-единственном условии.
Пол. Что за условие?
Сократ. Чтобы ты унял свою страсть к
многословию, которой уже предался было вначале.
Пол. Как? Мне нельзя будет говорить
сколько вздумается? {E}
Сократ. Да, тебе очень не посчастливилось
бы, мой дорогой, если бы, прибыв в Афины, где принята самая широкая
в Греции свобода речи18, ты оказался бы один в целом
городе лишен этого права. Но взгляни и с другой стороны: ты
пустишься в долгие речи, не захочешь отвечать на вопросы — и не мне
ли уже тогда очень не посчастливится, раз нельзя будет уйти и не
{462} слушать тебя? Итак, если тебя сколько-нибудь занимает беседа,
которая шла до сих пор, и ты хочешь направить ее на верный путь, то,
повторяю, поставь под сомнение, что найдешь нужным, в свою очередь
спрашивай, в свою отвечай, как мы с Горгием, возражай и выслушивай
возражения. Ведь ты, конечно, считаешь, что знаний у тебя не меньше,
чем у Горгия, верно?
Пол. Верно.
Сократ. Стало быть, и ты предлагаешь,
чтобы тебя спрашивали, кто о чем вздумает, потому что знаешь. как
отвечать?
Пол. Несомненно. {B}
Сократ. Тогда выбирай сам, что тебе больше
нравится, — спрашивать или отвечать.
Пол. Хорошо, так и сделаем. Ответь мне,
Сократ, если Горгий, по-твоему, зашел в тупик, что скажешь о
красноречии ты сам?
Сократ. Ты спрашиваешь, что это за
искусство, на мой взгляд?
Пол. Да.
Сократ. Сказать тебе правду, Пол,
по-моему, это вообще не искусство.
Пол. Но что же такое, по-твоему,
красноречие?
Сократ. Вещь, которую ты, как тебе
представляется, возвысил до искусства в своем сочинении: я недавно
его прочел.
Пол. Ну, так что же это все-таки?
Сократ. Какая-то сноровка, мне думается.
{C}
Пол. Значит, по-твоему, красноречие — это
сноровка?
Сократ. Да, с твоего разрешения.
Пол. Сноровка в чем?
Сократ. В том, чтобы доставлять радость и
удовольствие.
Пол. Значит, красноречие кажется тебе
прекрасным потому, что оно способно доставлять людям удовольствие?
Сократ. Постой-ка, Пол. Разве ты уже узнал
от {D} меня, что именно я понимаю под красноречием, чтобы задавать
новый вопрос: прекрасно ли оно, на мой взгляд, или не прекрасно?
Пол. А разве я не узнал, что под
красноречием ты понимаешь своего рода сноровку?
Сократ. Не хочешь ли, раз уже ты так
ценишь радость, доставить небольшую радость и мне?
Пол. Охотно.
Сократ. Тогда спроси меня, что
представляет собою, на мой взгляд, поваренное искусство.
Пол. Пожалуйста: что это за искусство —
поваренное?
Сократ. Оно вообще не искусство, Пол.
Пол. А что же? Ответь.
Сократ. Отвечаю: своего рода сноровка.
Пол. В чем? Отвечай. {E}
Сократ. Отвечаю: в том, чтобы доставлять
радость и удовольствие, Пол.
Пол. Значит, поваренное искусство — то же,
что красноречие?
Сократ. Никоим образом, но это разные
части одного занятия.
Пол. Какого такого занятия?
Сократ. Я боюсь, как бы правда не
прозвучала слишком грубо, и не решаюсь говорить из-за Горгия: он
может подумать, будто я поднимаю на смех его занятие. Я не уверен,
что красноречие, которым занимается {463} Горгий, совпадает с тем,
какое я имею в виду (ведь до сих пор из нашей беседы его взгляд на
красноречие так и не выяснился), но то, что я называю красноречием,
— это часть дела, которое прекрасным никак не назовешь.
Горгий. Какого, Сократ? Не стесняйся меня,
скажи.
Сократ. Ну, что ж, Горгий, по-моему, это
занятие, чуждое искусству, но требующее души догадливой, дерзкой и
наделенной природным даром обращения {B} с людьми. Суть этого
занятия я зову угодничеством. Оно складывается из многих частей,
поваренное искусство — одна из них. Впрочем, искусством оно только
кажется; по-моему, это не искусство, но навык и сноровка. Частями
того же занятия я считаю и красноречие, и украшение тела, и
софистику — всего четыре части соответственно четырем различным
предметам.
Теперь, если Пол желает спрашивать, пусть
спрашивает. {C} Ведь он еще не узнал, какую часть угодничества
составляет, на мой взгляд, красноречие, — на такой вопрос я еще не
отвечал, но Пол этого не заметил и спрашивает дальше, считаю ли я
красноречие прекрасным. А я не стану отвечать ему, каким считаю
красноречие, прекрасным или же безобразным, раньше чем не отвечу на
вопрос, что оно такое! Это было бы не по справедливости, Пол. Но
если ты все же хочешь узнать, какую, на мой взгляд, часть
угодничества составляет красноречие, спрашивай.
Пол. Вот я и спрашиваю: ответь мне, какую
часть? {D}
Сократ. Поймешь ли ты мой ответ?
Красноречие, по моему мнению, — это призрак одной из частей
государственного искусства.
Пол. И дальше что? Прекрасным ты его
считаешь или безобразным?
Сократ. Безобразным. Всякое зло я зову
безобразным. Приходится отвечать тебе так, как если бы ты уже
сообразил, что я имею в виду.
Горгий. Клянусь Зевсом, Сократ, даже я не
понимаю, что ты имеешь в виду! {E}
Сократ. Ничего удивительного, Горгий: я
ведь еще не объяснил свою мысль. Но Пол у нас молодой и шустрый —
настоящий жеребенок!18а
Горгий. Да оставь ты его и растолкуй лучше
мне, что это значит: красноречие — призрак одной из частей
государственного искусства?
Сократ. Да, я попытаюсь объяснить, чем
представляется мне красноречие. А если запутаюсь — вот тебе Пол: он
меня уличит. Ты, вероятно, различаешь душу и тело?
Горгий. Ну, еще бы! {464}
Сократ. Стало быть, и душе, и телу,
по-твоему, свойственно состояние благополучия?
Горгий. Да.
Сократ. Но бывает и мнимое благополучие, а
не подлинное? Я хочу сказать вот что: многим мнится, что они здоровы
телом, и едва ли кто с легкостью определит, что они нездоровы, кроме
врача пли учителя гимнастики.
Горгий. Ты прав.
Сократ. В таком состоянии, утверждаю я,
может находиться не только тело, но и душа: оно придает телу и душе
видимость благополучия, которого в них {B} на самом деле нет.
Горгий. Верно.
Сократ. Так, а теперь, если смогу, я
выскажу тебе свое мнение более отчетливо.
Раз существуют два предмета, значит, и искусства
тоже два. То, которое относится к душе, я зову государственным, то,
которое к телу, не могу обозначить тебе сразу же одним словом, и,
хоть оно одно, это искусство попечения о теле, я различаю в нем две
части: гимнастику и врачебное искусство. В государственном искусстве
первой из этих частей соответствует искусство законодателя, второй —
искусство судьи. Внутри каждой пары оба искусства связаны меж собою
— {C} врачевание с гимнастикой и законодательство с правосудием,
потому что оба направлены на один и тот же предмет, но вместе с тем
и отличны друг от друга.
Итак, их четыре, и все постоянно пекутся о высшем
благе, одни — для тела, другие — для души, а угодничество, проведав
об этом — не узнав, говорю я, а только догадавшись! — разделяет само
себя на четверти, укрывается за каждым из четырех искусств и
прикидывается {D} тем искусством, за которым укрылось, но о высшем
благе нисколько не думает, а охотится за безрассудством, приманивая
его всякий раз самым желанным наслаждением, и до такой степени его
одурачивает, что уже кажется преисполненным высочайших достоинств.
За врачебным искусством укрылось поварское дело и прикидывается,
будто знает лучшие для тела кушанья, так что если бы пришлось повару
и врачу спорить, кто из них двоих знает толк в полезных и вредных
кушаньях, а спор бы их решали дети или столь же безрассудные
взрослые, то врач умер бы с голоду. {E}
Вот что я называю угодничеством, и считаю его
{465} безобразным, Пол, — это я к тебе обращаюсь, — потому что оно
устремлено к приятному, а не к высшему благу. Искусством я его не
признаю — это всего лишь сноровка, — ибо, предлагая свои советы, оно
не в силах разумно определить природу того, что само же предлагает,
а значит, не может и назвать причину каждого из своих [действий]. Но
неразумное дело я не могу называть искусством. Если у тебя есть что
возразить по этому поводу, я готов защищаться. {B}
За врачеванием, повторяю, прячется поварское
угодничество, за гимнастикой, таким же точно образом, — украшение
тела: занятие зловредное, лживое, низкое, неблагородное, оно вводит
в обман линиями, красками, гладкостью кожи, нарядами и заставляет
гнаться за чужой красотой, забывая о собственной, которую дает
гимнастика.
Чтобы быть покороче, я хочу воспользоваться
языком геометрии, и ты, я надеюсь, сможешь за мною {C} уследить: как
украшение тела относится к гимнастике, так софистика относится к
искусству законодателя, и как поварское дело — к врачеванию, так
красноречие — к правосудию. Я уже говорил, что по природе меж ними
существует различие, но вместе с тем они и близки друг другу, и
потому софисты и ораторы толпятся в полном замешательстве вокруг
одного и того же и сами не знают толком, в чем их занятие, и
остальные люди не знают. И действительно, если бы {D} не душа
владычествовала над телом, а само оно над собою, и если бы не душою
различали и отделяли поварское дело от врачевания, но тело судило бы
само, пользуясь лишь меркою собственных радостей, то было бы в
точности по слову Анаксагора19, друг мой Пол (ты ведь
знаком с его учением): все вещи смешались бы воедино — и то, что
относится к врачеванию, к здоровью, к поварскому делу стало бы меж
собою неразличимо.
Что я понимаю под красноречием, ты теперь слышал:
это как бы поварское дело для души. {E}
Вероятно, мое поведение странно: тебе я не
позволил вести пространные речи, а сам затянул речь вон как надолго.
Но право же, я заслуживаю извинения. Если бы я был краток, ты бы
меня не понял и не смог бы использовать ответ, который я тебе дал,
но попросил бы новых разъяснений. Ведь и я, если ты отвечаешь, {466}
а я не могу применить к беседе твои слова, тоже прошу: “Продолжай,
будь добр, свое рассуждение”, — а если могу — другая просьба:
“Разреши, я его использую”. Это только справедливо. Вот и теперь,
если можешь воспользоваться моим ответом, то воспользуйся.
Пол. Так что же ты утверждаешь?
Красноречие — это, по-твоему, угодничество?
Сократ. Нет, я сказал: только часть
угодничества. Но что это, Пол? В твоем возрасте — и уж такая слабая
память? Что ж с тобой дальше будет?
Пол. Стало быть, по-твоему, хорошие
ораторы {B} мало что значат в своих городах, раз они всего лишь
льстивые угодники?
Сократ. Ты задаешь мне вопрос или
переходишь к какому-нибудь новому рассуждению?
Пол. Задаю вопрос.
Сократ. По-моему, они вообще ничего не
значат.
Пол. Как не значат? Разве они не всесильны
в своих городах?
Сократ. Нет, если силой ты называешь
что-то благое для ее обладателя.
Пол. Да, называю.
Сократ. Тогда, по-моему, ораторы обладают
самой {C} ничтожною силою в своих городах.
Пол. Как так? Разве они словно тираны, не
убивают, кого захотят, не отнимают имущество, не изгоняют из города,
кого сочтут нужным?
Сократ. Клянусь собакой, Пол, я спотыкаюсь
на каждом твоем слове: то ли ты сам все это говоришь, высказываешь
собственное суждение, то ли меня спрашиваешь?
Пол. Нет, я спрашиваю тебя.
Сократ. Хорошо, мой друг. Но ты задаешь
мне два вопроса сразу.
Пол. Почему два?
Сократ. Не сказал ли ты только что
примерно {D} так: “Разве ораторы, точно тираны, не убивают, кого
захотят, не отнимают имущество, не отправляют в изгнание, кого
сочтут нужным?”
Пол. Да, сказал.
Сократ. Вот я и говорю тебе, что это два
разных вопроса, и отвечу на оба. Я утверждаю, Пол, что и ораторы, и
тираны обладают в своих городах силою самою незначительной —
повторяю тебе это еще раз. Ибо делают они, можно сказать, совсем не
то, что хотят, — они делают то, что сочтут наилучшим.
Пол. А разве это не то же самое, что
обладать большой силою? {E}
Сократ. Нет. Так по крайней мере
утверждает Пол.
Пол. Я утверждаю? Я утверждаю как раз
обратное!
Сократ. Клянусь... нет, именно это, если
ты не отказываешься от своих слов, что большая сила — благо для
того, кто ею обладает.
Пол. Никак не отказываюсь!
Сократ. Стало быть, благо, по-твоему, —
это если кто ума не имеет, а действует так, как ему покажется {467}
наилучшим? И это ты зовешь большою силой?
Пол. Нет.
Сократ. Тогда ты, наверное, сейчас
опровергнешь меня и докажешь, что ораторы — люди разумные и что
красноречие — искусство, а не угодничество? А если не опровергнешь,
стало быть, ни ораторы, которые делают в своих городах, что им
вздумается, ни тираны никаким таким благом владеть не будут. Ведь ты
утверждаешь, что сила — благо, а действовать без разума, как
вздумается, — это, и по-твоему, зло. Так или нет?
Пол. Так.
Сократ. Каким же тогда образом ораторы или
тираны — большая сила в своих городах, если Пол не заставил Сократа
признать, что они делают все, что хотят? {B}
Пол. Нет, вы послушайте...
Сократ. Я утверждаю: они делают не то, что
хотят. Теперь опровергай меня.
Пол. Не признал ли ты сейчас, что они
поступают так, как считают наилучшим?
Сократ. И снова признаю.
Пол. Так не делают ли они того, что хотят?
Сократ. Нет.
Пол. Хоть и поступают так, как считают
нужным?
Сократ. Да.
Пол. Ну, Сократ, ты несешь несусветный
вздор!
Сократ. Не бранись, Пол, бесценнейший мой,
— я {C} хочу обратиться к тебе в твоем вкусе — а лучше, если есть у
тебя, что спросить, покажи, в чем я заблуждаюсь, если нет, давай
буду спрашивать я.
Пол. Спрашивай ты, чтобы мне, наконец,
понять, что ты имеешь в виду.
Сократ. Как тебе кажется, действуя, люди
желают того, что делают, или же того, ради чего они что-то делают?
Вот, например, те, кому врачи дают лекарство, они, по-твоему, желают
именно того, что делают — пить отвратительное на вкус лекарство, или
же другого {D} — быть здоровыми, ради чего и пьют? Пол. Ясно, что
быть здоровыми. Сократ. Точно так же и мореходы или люди,
занимающиеся любым иным прибыльным делом: не того они желают, что
каждый из них делает, — и правда, кому охота плавать, терпеть
опасности, обременять себя заботами? — а того, я думаю, ради чего
пускаются в плавание: богатства. Ведь ради того, чтобы разбогатеть,
пускаются они в плавание.
Пол. Конечно.
Сократ. И во всем остальном разве иначе?
Если человек что-нибудь делает ради какой-то цели, ведь не того он
хочет, что делает, а того, ради чего делает?
Пол. Да. {E}
Сократ. Теперь скажи, есть ли среди всего
существующего такая вещь, которая не была бы либо хорошею, либо
дурною, либо промежуточною между благом и злом?
Пол. Это совершенно невозможно, Сократ.
Сократ. И конечно, благом ты называешь
мудрость, здоровье, богатство и прочее тому подобное, а злом — все,
что этому противоположно?
Пол. Да.
Сократ. А ни хорошим, ни дурным ты, стало
быть, называешь то, что в иных случаях причастно благу, в иных злу,
а в иных ни тому ни другому, {468} как, например: “сидеть”,
“ходить”, “бегать”, “плавать”, или еще: “камни”, “поленья” и прочее
тому подобное? Не так ли? Или ты понимаешь что-либо иное под тем,
что ни хорошо, ни дурно?
Пол. Нет, это самое.
Сократ. И все промежуточное, что бы ни
делалось, делается ради благого или же благое — ради промежуточного?
Пол. Разумеется, промежуточное ради
благого.
Сократ. Стало быть, мы ищем благо и в
ходьбе, {B} когда ходим, полагая, что так для нас лучше, и,
наоборот, в стоянии на месте, когда стоим, — все ради того же, ради
блага? Или же не так?
Пол. Так.
Сократ. Значит, и убиваем, если случается
кого убить, и отправляем в изгнание, и отнимаем имущество, полагая,
что для нас лучше сделать это, чем не сделать?
Пол. Разумеется.
Сократ. Итак, все это люди делают ради
блага?
Пол. Берусь это утверждать.
Сократ. А мы с тобою согласились вот на
чем: если мы что делаем ради какой-то цели, мы желаем не {C} того,
что делаем, а того, ради чего делаем.
Пол. Совершенно верно.
Сократ. Стало быть, ни уничтожать, ни
изгонять из города, ни отнимать имущество мы не желаем просто так,
ни с того ни с сего; лишь если это полезно, мы этого желаем, если же
вредно — не желаем. Ведь мы желаем хорошего, как ты сам утверждаешь,
того же, что ни хорошо, ни плохо, не желаем и плохого тоже не
желаем. Не так ли? Правильно я говорю, Пол, или неправильно, как
тебе кажется? Что же ты не отвечаешь?
Пол. Правильно.
Сократ. Значит, на этом мы с тобою
согласились. Теперь, если кто убивает другого, или изгоняет из
города, или лишает имущества, — будь он тиран или оратор, все равно,
— полагая, что так для него лучше, а на самом деле оказывается, что
хуже, этот человек, {D} конечно, делает то, что считает нужным? Или
же нет?
Пол. Да.
Сократ. Но делает ли он то, чего желает,
если все оказывается к худшему? Что же ты не отвечаешь?
Пол. Нет, мне кажется, он не делает того,
что желает.
Сократ. Возможно ли тогда, чтобы такой
человек {E} владел большою силою в городе, если, по твоему же
признанию, большая сила — это некое благо?
Пол. Невозможно.
Сократ. Выходит, я был прав, когда
говорил, что бывают в городе люди, которые поступают, как считают
нужным, но большой силой не владеют и делают совсем не то, чего
хотят.
Пол. Послушать тебя, Сократ, так ты ни за
что бы не принял свободы делать в городе, что тебе вздумается,
скорее наоборот, и не стал бы завидовать человеку, который убивает,
кого сочтет нужным, или лишает имущества, или сажает в тюрьму!
Сократ. По справедливости он действует или
несправедливо?
Пол. Да как бы ни действовал, разве не
достоин {469} он зависти в любом случае?
Сократ. Не кощунствуй, Пол!
Пол. То есть как?
Сократ. А так, что не должно завидовать ни
тем, кто не достоин зависти, ни тем, кто несчастен, но жалеть их.
Пол. Что же, по-твоему, это относится и к
людям, о которых я говорю?
Сократ. А как же иначе!
Пол. Значит, тот, кто убивает, кого сочтет
нужным, и убивает по справедливости, кажется тебе жалким
несчастливцем!
Сократ. Нет, но и зависти он не вызывает.
Пол. Разве ты не назвал его только что
несчастным? {B}
Сократ. Того, кто убивает не по
справедливости, друг, не только несчастным, но вдобавок и жалким, а
того, кто справедливо, — недостойным зависти.
Пол. Кто убит несправедливо, — вот кто,
поистине, и жалок, и несчастен!
Сократ. Но в меньшей мере, Пол, чем его
убийца, и менее того, кто умирает, неся справедливую кару.
Пол. Это почему же, Сократ?
Сократ. Потому, что худшее на свете зло —
это творить несправедливость.
Пол. В самом деле худшее? А терпеть
несправедливость — не хуже?
Сократ. Ни в коем случае!
Пол. Значит, чем чинить несправедливость,
ты хотел бы скорее ее терпеть? {C}
Сократ. Я не хотел бы ни того ни другого.
Но если бы оказалось неизбежным либо творить несправедливость, либо
переносить ее, я предпочел бы переносить.
Пол. Значит, если бы тебе предложили
власть тирана, ты бы ее не принял?
Сократ. Нет, если под этой властью ты
понимаешь то же, что я.
Пол. Но я сейчас только говорил, что
именно я понимаю: свободу делать в городе, что сочтешь нужным, —
убивать, отправлять в изгнание — одним словом. поступать, как тебе
вздумается.
Сократ. Давай, мой милый, я приведу
пример, а ты возразишь. Представь себе, что я бы спрятал под {D}
мышкой кинжал, явился на рыночную площадь в час, когда она полна
народа, и сказал бы тебе так: “Пол, у меня только что появилась
неслыханная власть и сила. Если я сочту нужным, чтобы кто-то из этих
вот людей, которых ты видишь перед собой, немедленно умер, тот, кого
я выберу, умрет. И если я сочту нужным, чтобы кто-то из них разбил
себе голову, — paзобьет {E} немедленно, или чтобы ему порвали плащ —
порвут. Вот как велика моя сила в нашем городе”. Ты бы не поверил, а
я показал бы тебе свой кинжал, и тогда ты, пожалуй, заметил бы мне:
“Сократ, так-то и любой всесилен: ведь подобным же образом может
сгореть дотла и дом, какой ты ни выберешь, и афинские верфи, и
триеры, и все торговые суда, государственные и частные”. Но тогда
уже не в том состоит великая сила, чтобы поступать, как сочтешь
нужным. Что ты {470} на это скажешь?
Пол. Если так взглянуть, то конечно.
Сократ. А тебе ясно, за что ты порицаешь
такую силу?
Пол. Еще бы!
Сократ. За что же? Говори.
Пол. Кто так поступает, непременно понесет
наказание.
Сократ. А нести наказание — это зло?
Пол. Разумеется!
Сократ. Смотри же еще раз, чудной ты
человек, что у тебя получилось: если кто, действуя так, как считает
нужным, действует себе на пользу, это благо, и в этом, по-видимому,
большая сила. А в противном случае это зло, и сила ничтожна. А
теперь разберем такой {B} вопрос: не признали ли мы, что иногда
лучше делать то, о чем мы недавно говорили, — убивать людей,
отправлять их в изгнание, лишать имущества, — а иногда лучше не
делать?
Пол. Конечно.
Сократ. Мне кажется, мы оба это признали —
и ты, и я.
Пол. Да.
Сократ. В каких же случаях, по-твоему,
лучше делать? Определи точно.
Пол. Нет, Сократ, на этот вопрос ответь
сам.
Сократ. Ну, если ты предпочитаешь
послушать {C} меня, то, по-моему, если это делается по
справедливости, это хорошо, а если вопреки справедливости — плохо.
Пол. Как трудно возразить тебе, Сократ! Да
тут и ребенок изобличит тебя в ошибке!
Сократ. Я буду очень благодарен этому
ребенку и тебе точно так же, если ты изобличишь меня и тем избавишь
от вздорных мыслей. В одолжениях и услугах друзьям будь неутомим.
Прошу тебя, возражай.
Пол. Чтобы тебя опровергнуть, Сократ, нет
никакой нужды обращаться к временам, давно минувшим. {D} Событий
вчерашнего и позавчерашнего дня вполне достаточно, чтобы обнаружить
твое заблуждение и показать, как часто люди, творящие
несправедливость, наслаждаются счастьем.
Сократ. Каких же это событий?
Пол. Тебе, конечно, известен Архелай20,
сын Пердикки, властитель Македонии?
Сократ. Если и неизвестен, то я о нем
слышал.
Пол. Так он, по-твоему, счастливый или
несчастный?
Сократ. Не знаю, Пол, ведь я никогда с ним
не встречался. {E}
Пол. Что же, если б вы встретились, так ты
бы узнал, а без этого, издали, тебе никак невдомек, что он счастлив?
Сократ. Нет, клянусь Зевсом.
Пол. Ясное дело, Сократ, ты и про Великого21
царя скажешь, что не знаешь, счастлив он или нет!
Сократ. И скажу правду. Ведь я не знаю, ни
как он воспитан и образован, ни насколько он справедлив.
Пол. Что же, все счастие только в этом?
Сократ. По моему мнению, да, Пол. Людей
достойных и честных — и мужчин, и женщин — я зову счастливыми,
несправедливых и дурных — несчастными. {471}
Пол. Значит, этот самый Архелай, по твоему
разумению, несчастен?
Сократ. Да, мой друг, если он
несправедлив.
Пол. Какое уж тут “справедлив”! Он не имел
ни малейших прав на власть, которою ныне владеет, потому что родился
от рабыни Алкета, брата Пердикки, и, рассуждая по справедливости,
сам был Алкетовым рабом, а если бы пожелал соблюдать справедливость,
то и поныне оставался бы в рабстве у Алкета, и был бы счастлив — по
твоему разумению. Но вместо того он дошел до последних пределов
несчастья, потому что {B} учинил чудовищные несправедливости. Начал
он с того, что пригласил к себе господина своего и дядю, пообещав
вернуть ему власть, которой того лишил Пердикка, и, напоив гостей
допьяна — и самого Алкета, и сына его Александра, своего двоюродного
брата и почти ровесника, — взвалил обоих на телегу, вывез среди ночи
в поле и зарезал, а трупы исчезли бесследно. Совершив такую
несправедливость, он даже не заметил, что стал несчастнейшим из
людей, и никакого раскаяния не испытывал, а немного спустя не
пожелал стать счастливым, потому что не воспитал в согласии со
справедливостью своего брата, мальчика лет семи, законного сына
Пердикки, и не передал ему власть, {C} которая тому принадлежала по
справедливости, но утопил ребенка в колодце, матери же его,
Клеопатре, объявил, что тот гонялся за гусем, упал вводу и
захлебнулся. И вот теперь, самый заклятый враг справедливости в
Македонии, он, разумеется, и самый несчастный из македонян, а вовсе
не самый счастливый, и, вероятно, в Афинах найдутся люди, и ты между
{D} ними первый, Сократ, которые предпочтут поменяться местами с кем
угодно из македонян, только не с Архелаем!
Сократ. Еще в начале нашего разговора,
Пол, я похвалил тебя за хорошую, на мой взгляд, выучку в
красноречии, но заметил, что искусство вести беседу ты оставил без
должного внимания. Вот и теперь: это, стало быть, довод, которым
меня мог бы изобличить и ребенок, и ты полагаешь, будто с его
помощью надежно опроверг мое утверждение, что несправедливый не
бывает счастлив? С чего бы это, добрейший мой? Наоборот, ни в одном
слове я с тобой не согласен!
Пол. Просто не хочешь согласиться, а
думаешь так же, как я. {E}
Сократ. Милый мой, ты пытаешься
опровергать меня по-ораторски, по образцу тех, кто держит речи в
судах. Ведь и там одна сторона считает, что одолела другую, если в
подтверждение своих слов представила многих и вдобавок почтенных
свидетелей, а противник — одного какого-нибудь или же вовсе никого.
Но {472} для выяснения истины такое опровержение не дает ровно
ничего: бывает даже, что невинный22 становится жертвою
лжесвидетельства многих и как будто бы не последних людей. Так и в
нашем случае — чуть ли не все афиняне и чужеземцы поддержат тебя,
если ты пожелаешь выставить против меня свидетелей, и скажут, что я
неправ. В свидетели к тебе пойдет, если пожелаешь, Никий, сын
Никерата23, с братьями — это их треножники стоят один
подле другого в святилище Диониса, — пойдет, если пожелаешь,
Аристократ, сын Скеллия24, чей прославленный дар
красуется в святилище {B} Аполлона Пифийского, пойдет весь дом
Перикла или иной здешний род, какой пожелаешь выбрать.
Но я хоть и в одиночестве, а с тобою не
соглашусь, потому что доводы твои нисколько меня не убеждают, а
просто, выставив против меня толпу лжесвидетелей, ты стараешься
вытеснить меня из моих владений — из истины. Я же, пока не
представлю одного-единственного свидетеля, подтверждающего мои
слова, — тебя {C} самого, считаю, что не достиг в нашей беседе почти
никакого успеха. Но я считаю, что и ты ничего не достигнешь, если не
получишь свидетельства от меня одного; всех же прочих свидетелей
можешь спокойно отпустить.
Стало быть, вот какой существует способ
опровержения, который признаешь ты и многие кроме тебя; но
существует и другой, который признаю я. Давай их сравним и
посмотрим, чем они друг от друга отличаются. Ведь то, о чем мы
спорим, отнюдь не пустяк, скорее можно сказать, что это такой
предмет, знание которого для человека прекраснее всего, а незнание
всего позорнее: по существу речь идет о том, знать или не знать,
какой человек счастлив, а какой нет. {D}
Итак, скорее вернемся к предмету нашей беседы. Ты
полагаешь, что человек несправедливый и преступный может быть
счастлив, раз, по твоему мнению, Архелай счастлив, хотя и
несправедлив. Так мы должны тебя понимать или как-нибудь иначе?
Пол. Именно так.
Сократ. А я утверждаю, что не может. Это
первое наше разногласие. Ну, хорошо, а когда придет возмездие и
кара, несправедливый и тогда будет счастлив?
Пол. Конечно, нет! Тогда он будет самым
несчастным на свете.
Сократ. Но если кара несправедливого не
постигнет, он, по-твоему, будет счастлив?
Пол. Да.
Сократ. А, по моему мнению, Пол, человек
несправедливый и преступный несчастлив при всех обстоятельствах, но
он особенно несчастлив, если уходит от возмездия и остается
безнаказанным, и не так несчастлив, если понесет наказание и узнает
возмездие {473} богов и людей.
Пол. Но это нелепость, Сократ!
Сократ. Я постараюсь разубедить тебя,
приятель, чтобы и ты разделил мое суждение; потому что ты мне друг,
так я считаю. Стало быть, мы расходимся вот в чем (следи за мною
внимательно): я утверждал раньше, что поступать несправедливо хуже,
чем терпеть несправедливость.
Пол. Именно так.
Сократ. А ты — что хуже терпеть.
Пол. Да.
Сократ. И еще я говорил, что
несправедливые несчастны, а ты это отверг. {B}
Пол. Да, клянусь Зевсом!
Сократ. Таково твое суждение, Пол.
Пол. И правильное суждение.
Сократ. Может быть. Ты сказал, что
несправедливые счастливы, если остаются безнаказанными.
Пол. Совершенно верно.
Сократ. А я утверждаю, что они самые
несчастные и что те, кто понесет наказание, менее несчастны. Ты и
это намерен опровергать?
Пол. Ну, это опровергнуть еще потруднее
прежнего, Сократ!
Сократ. Нет, Пол, не труднее, а
невозможно: истину вообще нельзя опровергнуть. {C}
Пол. Что ты говоришь?! Если человек
замыслил несправедливость, например — стать тираном, а его схватят
и, схвативши, растянут на дыбе, оскопят, выжгут глаза, истерзают
всевозможными, самыми разнообразными и самыми мучительными пытками
да еще заставят смотреть, как пытают его детей и жену, а в конце
концов распнут или сожгут на медленном огне25 — в этом
случае он будет счастливее, чем если бы ему удалось спастись и
сделаться тираном и править городом до конца своих дней, поступая
как вздумается, возбуждая зависть и слывя счастливцем и меж
согражданами, и среди чужеземцев? Это ли, по-твоему, невозможно {D}
опровергнуть?
Сократ. Раньше ты взывал к свидетелям,
почтеннейший Пол, а теперь запугиваешь меня, но опять-таки не
опровергаешь. Впрочем, напомни мне, пожалуйста, одну подробность.
“Если несправедливо замыслит стать тираном” — так ты выразился?
Пол. Так.
Сократ. Тогда счастливее ни тот ни другой
из них не будет — ни тот, кто захватит тираническую власть вопреки
справедливости, ни тот, кто понесет наказание: из двух несчастных ни
один не может называться “более счастливым”. Но более несчастным
будет тот, {E} кто спасется и станет тираном. Что это, Пол? Ты
смеешься? Это, видно, еще один способ опровержения: если тебе что
скажут, в ответ насмехаться, а не возражать?
Пол. Не кажется ли тебе, Сократ, что ты
уже полностью опровергнут, раз говоришь такое, чего ни один человек
не скажет? Спроси любого из тех, кто здесь.
Сократ. Пол, я к государственным людям не
принадлежу, и, когда в прошлом году мне выпал жребий заседать в
Совете26 и наша фила27 председательствовала,
{474} а мне досталось собирать голоса, я вызвал общий смех, потому
что не знал, как это делается. Вот и теперь, не заставляй меня
собирать мнения присутствующих, но, если возражений посильнее
прежних у тебя нет, тогда, как я уже тебе сказал недавно, уступи,
соблюдая очередь, место мне и познакомься с возражением, которое мне
кажется важным.
Что до меня, то, о чем бы я ни говорил, я могу
выставить лишь одного свидетеля — собеседника, с которым веду
разговор, а свидетельства большинства в расчет не принимаю, и о
мнении могу справиться лишь у {B} одного, со многими же не стану
беседовать. Гляди теперь, готов ли ты в свою очередь подвергнуться
испытанию, отвечая на мои вопросы.
По моему суждению, и я, и ты, и остальные люди —
все мы считаем, что хуже творить несправедливость, чем ее терпеть28,
и оставаться безнаказанным, чем нести наказание.
Пол. А по-моему, ни я и никто из людей
этого не считает. Ты-то сам разве предпочел бы терпеть
несправедливость, чем причинять ее другому?
Сократ. Да, и ты тоже, и все остальные.
Пол. Ничего подобного: ни я, ни ты и
вообще никто! {C}
Сократ. Не хочешь ли ответить на вопрос?
Пол. Очень хочу! Любопытно, что ты теперь
станешь говорить.
Сократ. Сейчас узнаешь, только для этого
отвечай так, как если бы мы всё начали сначала. Как тебе кажется,
Пол, что хуже — причинять несправедливость или терпеть?
Пол. По-моему, терпеть.
Сократ. А безобразнее [постыднее] что?
Причинять несправедливость или терпеть? Отвечай.
Пол. Причинять несправедливость.
Сократ. Но значит, и хуже, если постыднее?
Пол. Никоим образом!
Сократ. Понимаю. По-видимому, прекрасное29
{D} для тебя — не то же, что доброе, и дурное — не то же, что
безобразное.
Пол. Нет, конечно!
Сократ. Тогда такой вопрос: все
прекрасное, будь то тела, цвета, очертания, звуки, нравы, ты
называешь в каждом отдельном случае прекрасным, ни на что не
оглядываясь? Начнем, к примеру, с прекрасных тел, — ты ведь зовешь
их прекрасными либо сообразно пользе, смотря по тому, на что каждое
из них пригодно, либо сообразно некоему удовольствию, если тело
доставляет радость, когда на него смотрят? Есть у тебя, что к этому
прибавить насчет красоты {E} тела?
Пол. Нет.
Сократ. Но и все прочее также — и
очертания, и цвета ты называешь прекрасными в согласии либо с
пользою, либо с удовольствием, либо с тем и другим вместе?
Пол. Верно.
Сократ. И звуки, и все, что относится к
музыке, — тоже так?
Пол. Да.
Сократ. А в законах и нравах прекрасное
обнаруживается иным каким-либо образом или тем же самым — через
полезное, либо приятное, либо то и другое вместе? {475}
Пол. Тем же самым, мне кажется.
Сократ. И с красотою наук обстоит не
иначе?
Пол. Нет, именно так! Вот теперь ты даешь
прекрасное определение, Сократ, определяя прекрасное через
удовольствие и добро.
Сократ. Значит, безобразное определим
через противоположное — через страдание и зло?
Пол. Обязательно!
Сократ. Стало быть, если из двух
прекрасных вещей одна более прекрасна, она прекраснее оттого, что
превосходит другую либо тем, либо другим, либо тем и другим вместе —
удовольствием, пользой или удовольствием и пользой одновременно?
Пол. Конечно.
Сократ. А если из двух безобразных вещей
одна {B} более безобразна, она окажется безобразнее потому, что
превосходит другую страданием либо злом? Или это не обязательно?
Пол. Обязательно.
Сократ. Давай-ка теперь вспомним, что
говорилось недавно о несправедливости, которую терпишь или
причиняешь сам. Не говорил ли ты, что терпеть несправедливость хуже,
а причинять — безобразнее [постыднее]?
Пол. Говорил.
Сократ. Стало быть, если причинять
несправедливость безобразнее, чем ее терпеть, то первое либо
мучительнее и тогда безобразнее оттого, что превосходит второе
страданием либо оно [превосходит] его злом, либо тем и другим. Это
тоже обязательно или же нет?
Пол. А как же иначе!
Сократ. Разберем сперва, действительно ли
первое превосходит второе страданием и больше ли страдают {C} те,
кто чинит несправедливость, чем те, кто ее переносит.
Пол. Это уж ни в коем случае, Сократ!
Сократ. Страданием, стало быть, первое не
превосходит второе?
Пол. Нет, конечно.
Сократ. Значит, если не страданием, то и
не злом и страданием вместе.
Пол. Кажется, так.
Сократ. Остается, значит, другое.
Пол. Да.
Сократ. То есть зло.
Пол. Похоже, что так.
Сократ. Но если причинять несправедливость
— большее зло, чем переносить, значит, первое хуже второго.
Пол. Очевидно, да.
Сократ. Не согласился ли ты недавно с
общим мнением, что творить несправедливость безобразнее, чем
испытывать ее на себе? {D}
Пол. Согласился.
Сократ. А теперь выяснилось, что [не
только безобразнее, но] и хуже.
Пол. Похоже, что так.
Сократ. А большее зло и большее безобразие
ты предпочел бы меньшему? Отвечай смело, Пол, не бойся — ты ничем
себе не повредишь. Спокойно доверься разуму, словно врачу, и отвечай
на мой вопрос “да” или “нет”. {E}
Пол. Нет, не предпочел бы, Сократ.
Сократ. А другой какой-нибудь человек?
Пол. Думаю, что нет, по крайней мере после
такого рассуждения.
Сократ. Стало быть, я верно говорил, что
ни я, ни ты и вообще никто из людей не предпочел бы чинить
несправедливость, чем терпеть, потому что чинить ее — хуже.
Пол. Видимо, так.
Сократ. Теперь ты убедился, Пол, сравнив
два способа опровержения, что они нисколько друг с другом не схожи:
с тобою соглашаются все, кроме {476} меня, а мне достаточно, чтобы
ты один со мною согласился и подал голос в мою пользу, тебя одного я
зову в свидетели, остальные же мне вовсе не нужны.
Но об этом достаточно. Обратимся теперь ко
второму нашему разногласию: самое ли большое зло Для преступившего
справедливость, если он понесет наказание (так считаешь ты), или еще
большее зло — остаться безнаказанным (так я считаю). Давай начнем
вот каким образом. Понести наказание и принять справедливую кару за
преступление — одно и то же, как по-твоему?
Пол. По-моему, да. {B}
Сократ. Будешь ли ты теперь отрицать, что
справедливое всегда прекрасно, поскольку оно справедливо? Подумай
как следует, прежде чем отвечать.
Пол. Нет, Сократ, мне представляется, так
оно и есть.
Сократ. Теперь разбери вот что. Если кто
совершает какое-нибудь действие, обязательно ли должен существовать
предмет, который на себе это действие испытывает?
Пол. Мне кажется, да.
Сократ. Испытывать же он будет то, что
делает действующий, и такое именно действие, какое тот совершает? Я
приведу тебе пример. Если кто наносит удары, они обязательно на
что-нибудь падают?
Пол. Обязательно.
Сократ. И если он наносит удары сильно {C}
или часто, так же точно воспринимает их и предмет, на который они
падают?
Пол. Да.
Сократ. Стало быть, то, что испытывает
предмет, на который падают удары, полностью соответствует действиям
того, кто их наносит?
Пол. Совершенно верно.
Сократ. Значит, и если кто делает
прижигание, обязательно существует тело, которое прижигают?
Пол. Как же иначе!
Сократ. И если прижигание сильное или
болезненное, тело так и прижигается — сильно или болезненно?
Пол. Совершенно верно.
Сократ. Значит, и если кто делает разрез,
— то же самое? Должно ведь существовать тело, которое режут.
Пол. Да.
Сократ. И если разрез длинный, или
глубокий, {D} или болезненный, тело получает такой именно разрез,
какой наносит режущий?
Пол. Видимо, так.
Сократ. Теперь смотри, согласен ли ты с
тем, о чем я сейчас говорил, в целом: всегда, какое действие
совершается, такое же в точности и испытывается?
Пол. Согласен.
Сократ. Раз в этом мы с тобою согласились,
скажи: нести кару — значит что-то испытывать или же действовать?
Пол. Непременно испытывать, Сократ.
Сократ. Но испытывать под чьим-то
воздействием?
Пол. А как же иначе? Под воздействием
того, кто карает.
Сократ. А кто карает по заслугам, карает
{E} справедливо?
Пол. Да.
Сократ. Справедливость он творит или
несправедливость?
Пол. Справедливость.
Сократ. Значит, тот, кого карают, страдает
по справедливости, неся свое наказание?
Пол. Видимо, так.
Сократ. Но мы, кажется, согласились с
тобою, что все справедливое — прекрасно?
Пол. Да, конечно.
Сократ. Стало быть, один из них совершает
прекрасное действие, а другой испытывает на себе — тот, кого
наказывают.
Пол. Да. {477}
Сократ. А раз прекрасное — значит, и
благое? Ведь прекрасное либо приятно, либо полезно.
Пол. Непременно.
Сократ. Стало быть, наказание — благо для
того, кто его несет?
Пол. Похоже, что так.
Сократ. И оно ему на пользу?
Пол. Да.
Сократ. Но одинаково ли мы понимаем эту
пользу? Я имею в виду, что человек становится лучше душою, если его
наказывают по справедливости.
Пол. Естественно!
Сократ. Значит, неся наказание, он {B}
избавляется от испорченности, омрачающей души?
Пол. Да.
Сократ. Так не от величайшего ли из зол он
, избавляется? Рассуди сам. В делах имущественных усматриваешь ли ты
для человека какое-нибудь иное зло, кроме бедности?
Пол. Нет, одну только бедность.
Сократ. А в том, что касается тела? Ты,
вероятно, назовешь злом слабость, болезнь, безобразие и прочее тому
подобное?
Пол. Разумеется.
Сократ. А ты допускаешь, что и в душе
может быть испорченность?
Пол. Конечно, допускаю!
Сократ. И зовешь ее несправедливостью,
невежеством, трусостью30 и прочими подобными именами?
Пол. Совершенно верно.
Сократ. Стало быть, для трех этих вещей —
имущества, {C} тела и души — ты признал три вида испорченности:
бедность, болезнь, несправедливость?
Пол. Да.
Сократ. Какая же из них самая безобразная?
Верно, несправедливость и вообще испорченность души?
Пол. Так оно и есть.
Сократ. А раз самая безобразная, то и
самая плохая?
Пол. Как это, Сократ? Не понимаю.
Сократ. А вот как. Самое безобразное
всегда причиняет либо самое большое страдание, либо самый большой
вред, либо, наконец, то и другое сразу, потому-то оно и есть самое
безобразное, как мы с тобою уже согласились раньше.
Пол. Совершенно верно.
Сократ. А не согласились ли мы сейчас
только, что безобразнее всего несправедливость и вообще
испорченность {D} души?
Пол. Согласились.
Сократ. Стало быть, она либо мучительнее
всего, и тогда потому самая безобразная, что превосходит [прочие
виды испорченности] мукою, либо превосходит вредом, либо тем и
другим вместе?
Пол. Непременно.
Сократ. А быть несправедливым,
невоздержным, трусливым, невежественным — больнее, чем страдать от
бедности или недуга?
Пол. Мне кажется, нет, Сократ. По крайней
мере из нашего рассуждения это не следует.
Сократ. Стало быть, если среди всех
испорченностей самая безобразная — это испорченность души, она
безмерно, чудовищно превосходит остальные вредом и {E} злом: ведь не
болью же — боль ты исключил.
Пол. Видимо, так.
Сократ. Но то, что приносит самый большой
вред, должно быть самым большим на свете злом.
Пол. Да.
Сократ. Стало быть, несправедливость,
невоздержность и вообще всякая испорченность души — величайшее на
свете зло?
Пол. Видимо, так.
Сократ. Теперь скажи, какое искусство
избавляет от бедности? Не искусство ли наживы?
Пол. Да.
Сократ. А от болезни? Не врачебное ли
искусство?
Пол. Непременно.
Сократ. Какое же — от испорченности и
несправедливости? {478} Если вопрос тебя затрудняет, поставим его
так: куда и к кому приводим мы больных телом?
Пол. К врачам, Сократ.
Сократ. А несправедливых и невоздержных —
куда?
Пол. Ты хочешь сказать: к судьям?
Сократ. Не для того ли, чтобы они понесли
справедливое наказание?
Пол. Да, для этого.
Сократ. А те, кто их карает, не обращаются
ли за советом к правосудию, если карают по заслугам?
Пол. А как же иначе!
Сократ. Значит, искусство наживы избавляет
от {B} бедности, врачебное искусство — от болезни, а правый суд — от
невоздержности и несправедливости.
Пол. Видимо, так.
Сократ. Какая же среди этих вещей самая
прекрасная?
Пол. О чем ты говоришь?
Сократ. Об искусстве наживы, врачевании и
правосудии.
Пол. Правосудие намного выше всего
остального, Сократ.
Сократ. Значит, опять-таки, если оно всего
прекраснее, то либо доставляет наибольшее удовольствие, либо
наибольшую пользу, либо то и другое вместе?
Пол. Да.
Сократ. А лечиться — приятно, лечение
приносит удовольствие?
Пол. Мне кажется, нет.
Сократ. Но уж во всяком случае оно
полезно. Как по-твоему?
Пол. Да. {C}
Сократ. Ведь оно избавляет от большого зла
— чтобы вернуть здоровье, стоит вытерпеть боль.
Пол. Еще бы!
Сократ. Но тогда ли человек счастливее
всего телом, когда лечится, или когда вовсе не болеет?
Пол. Ясно, что когда не болеет.
Сократ. Да, счастье, видимо, не в том,
чтобы избавиться от зла, а в том, чтобы вообще его не знать.
Пол. Это верно. {D}
Сократ. Пойдем дальше. Если есть двое
больных — телом или душою, все равно, — который из них несчастнее:
тот, что лечится и избавляется от зла, или другой, который не
лечится и все оставляет как было?
Пол. По моему мнению, тот, что не лечится.
Сократ. Не ясно ли нам, что наказание
освобождает от величайшего зла — от испорченности?
Пол. Ясно.
Сократ. Возмездие вразумляет и делает
более справедливым, оно владеет целебною силой против испорченности.
Пол. Да. {E}
Сократ. Стало быть, самый счастливый тот,
у кого душа вообще не затронута злом, раз уже выяснилось, что именно
в этом самое большое зло.
Пол. Бесспорно.
Сократ. Вторым же, верно, будет тот, кто
избавляется от зла.
Пол. Похоже, что так.
Сократ. А это такой человек, который
выслушивает внушения, терпит брань и несет наказание.
Пол. Да.
Сократ. И стало быть, хуже всех живет тот,
кто остается несправедливым и не избавляется [от этого зла].
Пол. Видимо, так. {479}
Сократ. А это как раз тот человек, что
творит величайшие преступления и величайшую несправедливость и,
однако ж, успешно избегает и внушений, и возмездия, и заслуженной
кары, как, по твоим словам, удается Архелаю, да и остальным тиранам
тоже, и ораторам, и властителям. Так?
Пол. Похоже, что да.
Сократ. Но они, мой милейший, достигают
примерно того же, чего достиг бы больной, если он одержим самыми
злыми болезнями, но ответа за свои телесные изъяны перед врачами не
держит — не лечится, {B} страшась, словно малый ребенок, боли,
которую причиняют огонь и нож. Или ты думаешь по-другому?
Пол. Нет, я тоже так думаю.
Сократ. Он, видимо, просто не знает, что
такое здоровье и крепость тела. Но если не забывать, в чем мы с
тобою нынче пришли к согласию, Пол, тогда, пожалуй, и с теми, кто
уклоняется от наказания, дело обстоит примерно так же: боль,
причиняемую наказанием, они видят, а к пользе слепы и даже не
догадываются, насколько более жалкая доля — постоянная связь с
недужной душою, испорченной, несправедливой, {C} нечестивой, чем с
недужным телом, а потому и делают все, чтобы не держать ответа и не
избавляться от самого страшного из зол: копят богатства, приобретают
друзей, учатся говорить как можно убедительнее. И если то, в чем мы
с тобою согласились, верно, Пол, ты понимаешь, что следует из нашего
рассуждения? Или лучше сделаем вывод вместе?
Пол. Что ж, раз ты уже все равно так
решил.
Сократ. Можно ли сделать вывод, что самое
страшное зло — это быть несправедливым и поступать несправедливо?
Пол. По-видимому, да. {D}
Сократ. Избавление же от этого зла, как
выяснилось, состоит в том, чтобы понести наказание?
Пол. Пожалуй.
Сократ. А безнаказанность укореняет зло?
Пол. Да.
Сократ. Значит, поступать несправедливо —
второе по размеру зло, а совершить несправедливость и остаться
безнаказанным — из всех зол самое великое и самое первое.
Пол. Похоже, что так.
Сократ. На чем же, друг мой, мы с тобою
разошлись? Ты утверждал, что Архелай счастлив, хотя и {E} совершает
величайшие несправедливости, оставаясь при этом совершенно
безнаказанным, я же говорил, что, наоборот, будь то Архелай или
любой другой из людей, если он совершит несправедливость, а
наказания не понесет, он самый несчастный человек на свете и что во
всех случаях, кто чинит несправедливость, несчастнее того, кто ее
терпит, и кто остается безнаказанным — несчастнее несущего свое
наказание. Так я говорил?
Пол. Да.
Сократ. И теперь уж доказано, что говорил
правильно?
Пол. По-видимому.
Сократ. Вот и хорошо. Но раз это
правильно, Пол, {480} есть ли тогда большая польза от красноречия?
Судя по тому, на чем мы нынче согласились, нужно, чтобы каждый всего
больше остерегался, как бы самому не совершить какую-нибудь
несправедливость, зная, что это причинит ему достаточно много зла.
Не так ли?
Пол. Да, так.
Сократ. А если все же совершит — он ли сам
или кто-нибудь из тех, кто ему дорог, — нужно по доброй воле идти
скорее туда, где нас ждет наказание, — {B} к судье, все равно как к
врачу, нужно спешить, чтобы болезнь несправедливости, застарев, не
растлила душу окончательно и безнадежно. Можем ли мы решить
по-иному, Пол, если прежние наши слова сохраняют силу? Не
единственный ли этот вывод, который будет звучать с ними в лад?
Пол. Так как же мы решим, Сократ?
Сократ. Стало быть, для того, чтобы
оправдывать собственную несправедливость или несправедливость
родителей, друзей, детей, отечества, красноречие нам совершенно ни к
чему, Пол. Вот разве что кто-нибудь {C} обратится к нему с
противоположными намерениями, — чтобы обвинить прежде всего самого
себя, а затем и любого из родичей и друзей, кто бы ни совершил
несправедливость, и не скрывать [проступка], а выставлять на свет, —
пусть провинившийся понесет наказание и выздоровеет; чтобы упорно
убеждать и себя самого, и остальных не страшиться, но, крепко
зажмурившись, сохранять мужество, — как в те мгновения, когда
ложишься под нож или раскаленное железо врача, — и устремляться к
благому и прекрасному, о боли же не думать {D} вовсе; и если
проступок твой заслуживает плетей, пусть тебя бичуют, если оков —
пусть заковывают, если денежной пени — плати, если изгнания — уходи
в изгнание, если смерти — умирай, и сам будь первым своим
обвинителем, и своим, и своих близких, и на это употребляй
красноречие, чтобы преступления были до конца изобличены, а
[виновные] избавились от величайшего зла — от несправедливости. Так
мы рассудим, Пол, или не так? {E}
Пол. Мне, Сократ, это кажется нелепым, но
с тем, что говорилось раньше, у тебя, по-видимому, все согласуется.
Сократ. Стало быть, либо и от прежнего
необходимо отказаться, либо и это признать?
Пол. Да, стало быть, так.
Сократ. А с другой стороны, если надо
поступить наоборот, — причинить кому-то зло, врагу или кому-нибудь
еще, — главное, чтобы не в ответ на обиду, которую сам потерпел от
врага (ведь этого следует остерегаться), но если твой враг
несправедливо обидел другого человека, — нужно всеми средствами, и
словом, и делом, добиваться, чтобы он остался безнаказанным и к
судье не попал. Если же все-таки попадет, надо {481} подстроить так,
чтобы враг твой благополучно избегнул наказания, и если награбил
много золота, ничего бы не возвратил, а несправедливо, нечестиво
растратил на себя и на своих, а если совершил преступление,
заслуживающее смертной казни, то чтобы не умер, лучше всего —
никогда (пусть живет вечно, оставаясь негодяем!) или во всяком
случае прожил как можно дольше, ни в чем не изменившись. {B}
Вот для таких целей, Пол, красноречие, на мой
взгляд, полезно, хотя для того, кто не собирается поступать
несправедливо, польза от него, мне кажется, невелика, если,
разумеется, вообще от него может быть какая-то польза: по крайней
мере до сих пор наша беседа ее не обнаружила.
Калликл. Скажи мне, пожалуйста, Херефонт,
это Сократ всерьез говорит или шутит?
Херефонт. На мой взгляд, Калликл, очень
даже всерьез. Но можно спросить его самого.
Калликл. Да, клянусь богами, это я и хочу
сделать! Скажи мне, Сократ, как нам считать — всерьез ты теперь
говоришь или шутишь? Ведь если ты {C} серьезен и все это правда,
разве не оказалось бы, что человеческая наша жизнь перевернута вверх
дном и что мы во всем поступаем не как надо, а наоборот?
Сократ. Калликл, если б одно и то же
состояние разные люди испытывали по-разному — те так, другие этак, а
иной и вовсе ни с кем не схоже, — было бы нелегко {D} объяснить
другому собственное ощущение. Я говорю это, принявши в расчет, что
мы с тобою в нынешнее время находимся в одинаковом состоянии — мы
оба влюблены, и каждый — в двоих сразу: я — в Алкивиада, сына
Клиния, и в философию, ты — в афинский демос и в [Демоса], сына
Пирилампа31.
И вот я вижу, хотя ты и замечательный человек, а
всякий раз, что бы ни сказали твои любимцы, какое бы мнение ни
выразили, ты не в силах им возражать, но бросаешься из одной
крайности в другую. В Собрании, {E} если ты что предложишь, а народ
афинский окажется другого мнения, ты мигом повертываешься вслед и
предлагаешь, что желательно афинянам, и так же точно выходит у тебя
с этим красивым юношей, сыном Пирилампа. Да, ты не можешь
противиться ни замыслам, ни словам своих любимцев, и если бы кто
стал удивляться твоим речам, которые ты всякий раз произносишь им в
угоду, и сказал бы, что это странно, ты, вероятно, возразил бы ему —
когда бы захотел открыть правду, — что если никто не помешает твоим
любимцам и впредь вести такие речи, какие они ведут, то и {482} ты
никогда не изменишь своей привычке.
Вот и от меня тебе приходится слышать нечто
подобное, пойми это, и, чем дивиться моим речам, заставь лучше
умолкнуть мою любовь — философию32. Да, потому что без
умолку, дорогой друг, твердит она то, что ты теперь слышишь из моих
уст, и она далеко не так ветрена, как моя другая любовь: сын Клиния
сегодня говорит одно, завтра другое, а философия всегда одно и то же
— то, чему ты теперь дивишься, хотя и слушаешь с самого начала. {B}
А стало быть, повторяю еще раз, либо опровергни
ее и докажи, что творить несправедливость, и вдобавок безнаказанно,
не величайшее на свете зло, либо если ты оставишь это
неопровергнутым, клянусь собакой, египетским богом, Калликл не
согласится с Калликлом и всю жизнь будет петь не в лад с самим
собою. А между тем, как мне представляется, милейший ты мой, пусть
лучше лира у меня скверно настроена и звучит не в лад, пусть
нестройно поет хор, который я снаряжу, пусть большинство людей со
мной не соглашается и спорит, лишь бы только не вступить {C} в
разногласие и в спор с одним человеком — с собою самим.
Калликл. Сократ, мне кажется, ты
озорничаешь в речах, совсем как завзятый оратор. Вот и теперь ты так
ораторствовал, и с Полом произошло то же самое, что, как он говорил,
по твоей милости случилось с Горгием: когда ты спрашивал Горгия, что
будет, если к нему придет человек, который хочет изучить
красноречие, но что такое справедливость, не знает, — объяснит {D}
ли ему это Горгий, — тот застыдился и, подчинившись людскому обычаю,
отвечал, что да, потому что люди возмутились бы, если бы кто отвечал
иначе; а, признав это, он потом оказался вынужден противоречить
самому себе, а ты и радовался. Так что, мне кажется, Пол был прав,
когда насмехался над тобою.
А теперь он на себе испытал то же самое, и за что
я порицаю Пола, так это за то, что он согласился с тобою, будто
чинить несправедливость постыднее, чем терпеть. {E} Уступив в этом,
он в свою очередь оказался стреножен и взнуздан и умолк,
застыдившись открыть то, что у него на уме. И ведь верно, Сократ,
под предлогом поисков истины ты на самом деле утомляешь нам слух
трескучими и давно избитыми словами о том, что прекрасно совсем не
по природе, но только по установившемуся обычаю.
Большею частью они противоречат друг другу,
природа и обычай33, и потому, если кто стыдится и не
решается говорить, что думает, тот неизбежно впадает в противоречие.
{483} Ты это приметил и используешь, коварно играя словами: если
с тобою говорят, имея в виду обычай, ты ставишь вопросы в согласии с
природой, если собеседник рассуждает в согласии с природой, ты
спрашиваешь, исходя из обычая. Так было и только что, когда вы
говорили о несправедливости, которую причиняют и терпят, и Пол
толковал о том, что более постыдно по обычаю, ты же упорно переносил
его доводы с обычая на природу. По природе все, что хуже, то и
постыднее, безобразнее, например — терпеть несправедливость, но {B}
по установившемуся обычаю безобразнее поступать несправедливо. Ежели
ты доподлинно муж, то не станешь терпеть страдание, переносить
несправедливость — это дело раба34, которому лучше
умереть, чем жить, который терпит несправедливости и поношения
потому, что не в силах защитить ни себя самого, ни того, кто ему
дорог. Но по-моему, законы как раз и устанавливают слабосильные35,
а их большинство. Ради себя и собственной выгоды устанавливают они
законы, расточая и похвалы, и порицания. Стараясь запугать {C} более
сильных, тех, кто способен над ними возвыситься, страшась этого
возвышения, они утверждают, что быть выше остальных постыдно и
несправедливо, что в этом как раз и состоит несправедливость — в
стремлении подняться выше прочих. Сами же они по своей ничтожности
охотно, я думаю, довольствовались бы долею, равною для всех.
Вот почему обычай объявляет несправедливым и
постыдным стремление подняться над толпою, и это {D} зовется у людей
несправедливостью. Но сама природа, я думаю, провозглашает, что это
справедливо — когда лучший выше худшего и сильный выше слабого. Что
это так, видно во всем и повсюду и у животных, и у людей, — если
взглянуть на города и народы в целом, — видно, что признак
справедливости таков: сильный повелевает слабым и стоит выше
слабого. По какому праву {E} Ксеркс двинулся походом на Грецию, а
его отец — на скифов36? (Таких примеров можно привести
без числа!) Подобные люди, думаю я, действуют в согласии с самою
природою права и — клянусь Зевсом! — в согласии с законом самой
природы, хотя он может и не совпадать с тем законом, какой
устанавливаем мы и по какому стараемся вылепить самых лучших и
решительных среди нас. Мы берем их в детстве, словно львят, и
приручаем заклинаньями и ворожбою, внушая, что {484} все должны быть
равны и что именно это прекрасно и справедливо. Но если появится
человек, достаточно одаренный природою, чтобы разбить и стряхнуть с
себя все оковы, я уверен: он освободится, он втопчет в грязь наши
писания, и волшебство, и чародейство, и все противные природе
законы, и, воспрянув, явится перед нами владыкою, бывший наш раб, —
вот тогда-то и просияет справедливость природы37! {B}
Мне кажется, что и Пиндар38
высказывает те же мысли в песне, где говорит:
Закон надо всеми владыка,
Над смертными и бессмертными.
И дальше:
Творит насилье рукою могучею,
Прав он всегда.
В том мне свидетель Геракл: некупленных... когда...
Как-то так у него говорится в этом стихотворении,
— точно я не помню, — что, дескать, Герион коров и не продавал, и не
дарил, а Геракл все-таки их угнал, считая {C} это природным своим
правом, потому что и коровы, и прочее добро слабейшего и худшего
должно принадлежать лучшему и сильнейшему.
Такова истина, Сократ, и ты в этом убедишься,
если бросишь, наконец, философию и приступишь к делам поважнее. Да,
разумеется, есть своя прелесть и у философии, если заниматься ею
умеренно и в молодом возрасте; но стоит задержаться на ней дольше,
чем следует, и она погибель для человека! Если даже ты очень
даровит, но посвящаешь философии более зрелые свои {D} годы, ты
неизбежно останешься без того опыта, какой нужен, чтобы стать
человеком достойным и уважаемым. Ты останешься несведущ в законах
своего города, в том, как вести с людьми деловые беседы — частные ли
или государственного значения, безразлично, — в радостях и желаниях,
одним словом, совершенно несведущ в человеческих нравах. И к чему бы
ты тогда ни приступил, чем бы ни занялся — своим ли делом, пли
государственным, ты будешь смешон, так же, вероятно, как будет
смешон государственный муж, если {E} вмешается в ваши философские
рассуждения и беседы.
Тут выходит как раз по Эврипиду:
“Горд каждый тем бывает и к тому стремится,
День щедро тратя свой, забыв о времени.
В чем сам себя легко способен превзойти”39. {485}
И в чем он слаб, того избегает и то бранит, а
иное хвалит — из добрых чувств к самому себе, полагая, что таким
образом хвалит и себя.
Самое правильное, по-моему, не чуждаться ни того,
ни другого. Знакомство с философией прекрасно в той мере, в какой с
ней знакомятся ради образования, и нет ничего постыдного, если
философией занимается юноша. Но если он продолжает свои занятия и
возмужав, {B} это уже смешно, Сократ, и, глядя на таких философов, я
испытываю то же чувство, что при виде взрослых людей, которые
по-детски лепечут или резвятся. Когда я смотрю на ребенка, которому
еще к лицу и лепетать, и резвиться, мне бывает приятно, я нахожу это
прелестным и подобающим детскому возрасту свободного человека, когда
же слышу маленького мальчика, говорящего вполне внятно и отчетливо,
по-моему, это отвратительно — мне это режет слух и кажется чем-то
рабским. Но когда слышишь, как лепечет взрослый, {C} и видишь, как
он по-детски резвится, это кажется смехотворным, недостойным мужчины
и заслуживающим кнута.
Совершенно так же отношусь я и к приверженцам
философии. Видя увлечение ею у безусого юноши, я очень доволен, мне
это представляется уместным, я считаю это признаком благородного
образа мыслей; того же, кто совсем чужд философии, считаю человеком
низменным, который сам никогда не найдет себя пригодным {D} ни на
что прекрасное и благородное. Но когда я вижу человека в летах,
который все еще углублен в философию и не думает с ней расставаться,
тут уже, Сократ, по-моему, требуется кнут! Как бы ни был, повторяю
я, даровит такой человек, он наверняка теряет мужественность,
держась вдали от середины города, его площадей и собраний, где
прославляются мужи, по слову поэта40; он прозябает до
конца жизни в неизвестности, шепчась по углам с тремя или четырьмя
мальчишками, и никогда не слетит с его губ {E} свободное, громкое и
дерзновенное слово.
далее