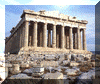Перевод
Т.В.Васильевой.
В кн.: Платон. С. с. в 4-х т. Т 1. М.: "Мысль", 1990
КРАТИЛ
(окончание)
Сократ. Так вот, истинная часть его
гладкая, божественная и витает в горних высях, среди богов, а ложная
находится среди людской толпы – косматая, козлиная. Отсюда и
большинство преданий и вся трагическая ложь.
Гермоген. Очень верно.
Сократ. Значит, видимо, правильно слово
"пан", означающее постоянный круговорот, дало Пану имя "козопаса" –
сына Гермеса, у которого двойная природа: гладкая верхняя часть и
косматая, козлоподобная нижняя. И одновременно этот Пан – слово или
брат слова, коль скоро он сын Гермеса, а что брат похож на брата –
это не удивительно. Однако, как я уже говорил, оставим богов.
Гермоген. Пожалуй, Сократ, о таких вещах
помолчим. А вот что тебе мешает рассуждать об этом: о Солнце и о
Луне, о звездах и о Земле, об эфире и воздухе, об огне и воде, о
временах года и о самом годе?
Сократ. Уж очень многого ты от меня
хочешь. Но если тебе это будет приятно, я готов.
Гермоген. Доставь мне удовольствие.
Сократ. С чего же ты хочешь начать? С
Солнца, как ты сказал? Гермоген. Конечно.
Сократ. Итак, сдается мне, нам станет это
яснее, если мы воспользуемся дорийским его именем. Ведь дорийцы
называют Солнце "Галиос": это имя, возможно, дано ему от его
восхода, когда люди собираются на сходку. А может быть, Солнце
потому так называется, что оно, вечно вращаясь вокруг Земли, как бы
вокруг нее слоняется ; а может, и потому, что, обходя Землю, оно
разукрашивает или расцвечивает все, что выходит из ее лона.
Гермоген. А как же Луна ?
Cократ. Это имя, мне кажется, уязвляет
Анаксагора.
Гермоген. Как это?
Сократ. Похоже, он нечто старое выдал за
новое, сказав, что Луна получает свет от Солнца.
Гермоген. Что ты имеешь в виду?
Сократ. Ведь "свет" и "луч" – одно и, то
же.
Гермоген. Да.
Сократ. Так вот этот свет у Луны как-то
всегда бывает и тем же самым, и новым, если правду говорят
последователи Анаксагора: потому что [Солнце ], обходя Луну вокруг,
всегда посылает ей новый свет, а прошлый остается от предыдущего
месяца.
Гермоген. Верно.
Сократ. А поскольку она имеет один и тот
же и вечно новый луч, то правильнее всего было бы ей с называться
"лучеединоновая", а сокращенно, но врастяжку ее называют "луна".
Гермоген. Это имя, Сократ, звучит так,
будто оно взято из дифирамба. А про месяц и звезды что ты скажешь?
Сократ. Месяц, вероятно, правильно был
назван "менесяцем" от "уменьшаться", а звезды называются так,
видимо, по сходству с молнией. Сама же молния, поскольку она, словно
молот, ударяет по глазам, возможно, называлась "моломния", теперь же
для красоты зовется "молния".
Гермоген. А как же огонь и вода?
Сократ. Огонь? Затрудняюсь сказать. Боюсь,
либо муза Евтифрона меня оставила, либо это уж очень сложно. А все
же смотри, какое ухищрение я придумал для всего того, что я
затруднился бы объяснить.
Гермоген. Какое же?
Сократ. Сейчас скажу. А вот ответь мне,
можешь ли ты сказать, почему так называется огонь?
Гермоген. Клянусь Зевсом, не могу никак.
Сократ. Смотри же, что я здесь подозреваю.
Мне пришло в голову, что многие имена эллины заимствовали у
варваров, особенно же те эллины, что живут под их властью.
Гермоген. Так что же?
Сократ. Если кто-либо возьмется
исследовать, насколько подобающим образом эти имена установлены,
исходя из эллинского языка, а не из того, из которого они, как
оказывается, взяты, то понятно, что он встанет в тупик.
Гермоген. И поделом.
Сократ. Взгляни теперь, может быть, и это
имя – "огонь" – варварское? Ведь эллинскому наречию и справиться с
ним нелегко, да к тому же известно, что так его называют фригийцы,
лишь немного отступая от этого произношения; то же самое относится к
именам "вода", "собаки" и многим другим.
Гермоген. Это верно.
Сократ. Тогда не нужно учинять насилие над
этими словами, если кто-то другой может их объяснить. Поэтому огонь
и воду мы оставим. А вот воздух, Гермоген, разве не от того ли, что
что-то воздымает от земли, называется воздухом? Или, может быть,
оттого, что он находится в вечном течении ? Или потому, что от его
течения возникают ветры, а ветры поэты называют дуновениями ?
Поэтому, вероятно, это слово произносилось "воздухо-поток",
обозначая, что воздух как бы гоним ветром. А слово "эфир" я понимаю
вот как: это – верхний слой воздуха, который все время извне обегает
самый воздух, и, вероятно, это правильно. Имя же "гея" – "земля" в
лучше обнаруживает, что оно значит, если произносить его "гайа". с
Возможно, что как раз Гайа – правильное ее имя и означает оно
"прародительница", если верить Гомеру. Ведь он близкое этому слово
"гегаасин" употребляет в значении "родиться". Ну ладно. Что же у нас
было за этим?
Гермоген. Времена года, Сократ. А также
два слова: "годы" и "лета".
Сократ. "Времена года" нужно произносить
по-аттически, как и встарь, если хочешь знать вероятное их значение.
Они так называются по праву, ибо как бы отгораживают зиму от лета,
время бурь от времени, когда земля дает плоды. А "годы" и "лета",
думаю, есть нечто единое. Ведь это то, что всё рождающееся и
возникающее, каждое в свой черед, выводит на свет и через самое себя
выявляет до конца. И как прежде мы говорили, что, разделив на две
части имя Зевса, одни звали его Дзеном, а другие Дием, так же и
здесь: то говорят "годы", подчеркивая этим значение "само в себе",
то "лета", оттеняя значение "выявлять", а в целом это слово означает
"самовыявление". Но произносится оно двояко, хотя и остается единым,
так что возникают два имени: "годы" и "лета".
Гермоген. Однако, несомненно, Сократ, ты
сделал большие успехи.
Сократ. Думаю, тебе кажется, что в
мудрости я уже далеко ушел.
Гермоген. Да, это верно.
Сократ. Скоро не то еще скажешь!
Гермоген. Но после вещей этого рода я бы с
удовольствием рассмотрел, по каким правилам установлены те славные
имена, что относятся к добродетели: "рассудительность",
"сметливость", "справедливость" и все остальное в том же роде.
Сократ. Друг мой, ты пробуждаешь к жизни
целый рой имен. А поскольку теперь я уже облачился в шкуру льва, мне
не следует бояться, а нужно рассмотреть, видимо, "разумение",
"сметливость", "понимание", "познание" и остальные, как ты говоришь,
славные имена.
Гермоген. Разумеется, нам не следует
отступать.
Сократ. И правда, клянусь собакой, я,
кажется, неплохой гадатель, а пришло мне в голову вот что: самые
древние люди, присваивавшие имена, как и теперь большинство
мудрецов, от непрерывного вращения головой в поисках объяснений
вещам всегда испытывали головокружение, и поэтому им казалось, что
вещи вращаются и несутся в каком-то вихре. И разумеется, и те и
другие считают, что причина такого мнения не внутренний их недуг, но
таковы уж вещи от природы: в них нет ничего устойчивого и надежного,
но все течет и несется, все в порыве и вечном становлении. Я говорю
это, имея в виду все упомянутые тобою сейчас имена.
Гермоген. Как это, Сократ?
Сократ. Может быть, ты замечал, что только
что названные слова присвоены так, как если бы имелось в виду, что
все вещи несутся, текут и испытывают постоянное становление?
Гермоген. Нет, мне это совсем не приходило
в голову.
Сократ. Во-первых, то имя, что мы назвали
первым, судя по всему, установлено именно так.
Гермоген. Какое?
Сократ. "Разумение". Ведь это помышление
умом того, кто судит о вихре, или течении, вещей ; а может быть, это
нужно понимать так, что есть определенный расчет в этом течении, что
оно полезно. Во всяком случае, это связано с движением. И если
угодно, "понимание", судя по всему, означает рассмотрение
возникновения, поскольку "рассматривать" и "понимать" – одно и то
же. Если же угодно, и самое имя "мышление" означает улавливание
нового, а новое в свою очередь означает вечное возникновение; так
вот, знаком того, что душа улавливает это вечное изменение или
возникновение нового, и установил законодатель имя "меноловление".
Ведь оно произносилось в древности иначе – с двумя эпсилонами вместо
эты. "Целомудрие" же означает, что "разумение" – это имя мы с тобой
уже сегодня рассматривали – сохраняется здравым. Да и слово
"познание" говорит о том, что душа, значение которой в этом деле
велико, следует за несущимися вещами, не отставая от них и их не
опережая. Поэтому, вставив, нужно говорить "гепеистэмэ" (не
"познать", а "позанять"). Сметливость же, как может оказаться,
означает "умозаключение". Ведь когда говорят "смекнуть", это
совершенно совпадает со значением слова "познать ": "смекнуть"
показывает, что душа сопровождает вещи, мечется вместе с ними. Ведь
даже слово "мудрость" означает "захватить порыв". Имя это, правда,
довольно темное и скорее всего чужое. Однако следует вспомнить, что
у поэтов во многих местах употребляется близкое по звучанию слово
"эсют" в значении "поспешно ушел". А одному из прославленных
лаконских мужей даже было такое имя – Сус, поскольку лакедемоняне
так именуют быстрый натиск. Так вот имя София и означает
захватывание такого порыва, поскольку все сущее как бы несется. Да и
имя "добро" с словно бы установлено для того, в чем изумительнее
всего проявилась природа. Ведь когда все вещи находятся в движении,
одно движется быстрее, другое – медленнее; и не все быстрое
изумляет, но лишь кое-что из него, и от такого рода быстроты самому
изумительному присвоено это имя – "добро".
Что же до "справедливости", то легко догадаться,
что имя это установлено ведению права, а вот самое имя "право"
понять трудно. Видимо, дело в том, что до некоторого предела почти
все единодушны, а вот дальше начинаются разногласия. Те, кто
считает, что все находится в пути, полагают также, что большая часть
вещей просто движется, а есть еще нечто такое, что проникает все
остальное, благодаря чему и возникает все рождающееся. Это нечто
есть также самое быстрое и самое тонкое: ведь иначе оно не могло бы
проникать сквозь все идущее, не будь оно столь тонким, что его ничто
не задерживает, и столь быстрым, что оно распоряжается остальными
вещами так, как если бы они стояли на месте. Следовательно, если это
проникающее начало правит всем остальным, то оно справедливо
называется "правом", а каппа здесь прибавлена для благозвучия. Так
вот до этого предела, до которого и мы сейчас дошли в нашем
рассуждении, все соглашаются, что именно это и означает "право". Я
же, Гермоген, будучи человеком в этом деле дотошным, разведал
хорошенько то, что не подлежит огласке: право есть то же, что и
причина, ведь то, что правит возникновением вещей, это же
одновременно и их причина, и кто-то даже сказал, что и Зевс
правильно так назван. Когда же, услыхав это, я тем не менее спокойно
переспросил: "Что же, милейший мой, в таком случае есть все-таки
право ?", то оказалось, что я спрашиваю больше, чем положено, и
напоминаю человека, перескакивающего через ров. Ведь они мне
сказали, что я уже достаточно разузнал и услышал, и если они захотят
наполнить меня до краев, то каждый начнет говорить свое и более уже
согласия между ними не будет. Так, например, один говорит, что право
– это Солнце, ведь оно одно, проходя сквозь вещи и опаляя их,
управляет всем сущим. Когда же я с восторгом сообщил это кому-то
другому, словно узнал нечто прекрасное, тот, услыхав это, поднял
меня на смех и спросил, не думаю ли я, что у людей не ос-с тается
ничего справедливого после захода Солнца. А после того как я стал
ему надоедать, выпытывая, что же он в свою очередь скажет, он
сказал, что право – это огонь, а постичь это нелегко. Другой сказал,
что это не самый огонь, но тепло, заключенное в огне. Третий же
поднял их всех на смех и заявил, что право – это ум, как указывает
Анаксагор, ибо ум, независимый и ни с чем не смешанный, все
упорядочивает, проникая все вещи. Вот почему, мой друг, я теперь в
гораздо большем затруднении, нежели прежде, чем я принялся узнавать,
что же такое, собственно, право. Однако то, ради чего мы затеяли это
рассмотрение, – имя права, – по-видимому, присвоено ему по этой
причине.
Гермоген. Мне кажется, Сократ, ты все это
уже от кого-то слышал и не только что пришло тебе это в голову.
Сократ. А все остальное?
Гермоген. Нет, разумеется.
Сократ. Ну ладно, слушай внимательно: ведь
может быть, я и в дальнейшем тебя обману – мол, вот я говорю то,
чего ни от кого доселе не слышал. Что же нам остается после
"справедливости"? Мужества, я думаю, мы еще не затрагивали. Ведь
"несправедливость" – имя ясное, и означает оно по существу помеху на
пути всепроникающей справедливости; а вот "мужество" имеет такое
значение, как если бы это имя дано было в борьбе. По отношению к
сущему, коль скоро оно течет, борьба будет значить не что иное, как
встречное течение. Если отнять дельту у слова "андрэйа", то
остальное даст имя "анрэйа", то есть "встречное течение". Ну и ясно
также, что мужество есть преграда не всякому течению, а тому,
которое сопротивляется справедливости, иначе оно не было бы
похвальным. Да и слова "мужественность" и "мужчина" очень близки
чему-то такому, что мешает неразумному течению вещей. А имя "жена",
мне кажется, указывает на роженицу. Всякая же самка и, как мне
кажется, получила имя от сосца, ну а сосец назван так, Гермоген, за
то, что, питая, он заставляет все наливаться и расцветать.
Гермоген. Как будто бы так, Сократ.
Сократ. А самое это слово "расцветать",
мне кажется, означает прирост новых сил, как если бы что-то быстро,
внезапно расцвело. Имя это как бы подражает сочетанию слов "бежать"
и "прыгать". Однако не замечаешь ли ты, что я как бы соскальзываю с
пути, когда касаюсь более легкого. У нас же осталось много трудных,
важных имен.
Гермоген. Это правда.
Сократ. Такое слово, например,
"искусство": очень важно узнать, что оно значит.
Гермоген. Да, это верно.
Сократ. Не значит ли это слово "иметь ум".
Если переставить и изменить некоторые буквы, то и получится
"искусство".
Гермоген. Это уж очень скользко, Сократ.
Сократ. Милый мой, разве ты не знаешь, что
имена, присвоенные первоначально, уже давно погребены под грудой
приставленных и отнятых букв усилиями тех, кто, составляя из них
трагедийные песнопения, всячески их изменял во имя благозвучия: тому
виной требования красоты, а также течение времени. Так, в слове
"зеркало" разве не кажется тебе неуместной вставка этого ? Однако, я
думаю, это делают те, кто не помышляет об истине, но стремится лишь
издавать звуки, так что, прибавляя все больше букв к первоначальным
именам, они под конец добились того, что ни один человек не
догадается, что же, собственно, данное имя значит. Так, например,
Сфинкса вместо "Финкс" зовут "Сфинкс" и так далее.
Гермоген. Да, это верно, Сократ.
Сократ. Так вот, если кто и впредь
позволит добавлять и отнимать у имен буквы как кому
заблагорассудится, то с еще большим удобством всякое имя можно будет
приладить ко всякой вещи.
Гермоген. Это правда.
Сократ. Конечно, правда. Однако, я думаю,
тебе, мудрому наставнику, следует соблюдать меру и приличие.
Гермоген. Охотно бы соблюдал.
Сократ. Да и я бы, Гермоген, охотно это
вместе с тобою делал. Однако, бесценнейший мой, не требуй слишком
строгого рассмотрения, иначе
Ты обессилишь меня, потеряю я крепость и
храбрость.
Ведь я подойду к вершине всего того, о чем я
говорил, когда вслед за искусством мы рассмотрим всякое ухищрение
вообще. Ухищрение, мне кажется, есть знак устремления к большему,
слово же "величина" близко к слову "много". Так вот, из этих двух
слов – "мекос" и "анейн" – и состоит это слово – "ухищрение".
Однако, как я уже здесь говорил, следует подойти к вершине нашего
рассуждения: нужно исследовать, что значат имена "добродетель" и
"порочность". В первое из них я еще не проник своим взором, второе
же мне кажется вполне ясным, так как оно согласуется со всем, что
было сказано раньше. Ведь раз вещи движутся, то все, что в этом
движении плохо, порочно, и есть порочность. И когда нашей душе
случается неправильно устремиться к вещам, то и это как частный
случай носит наименование порочности. А что это значит – "порочно
двигаться", мне кажется, ясно выражено и в слове "трусливость",
которое мы еще не разбирали, как бы перескочив через него, с тогда
как следовало рассмотреть его после "мужества". Мне кажется, мы
перескочили и через многое другое. Так вот "трусливость" означает
"чрезмерно крепкие узы души", ведь приблизительно такой смысл
заложен в слове "чрезмерно", выражающем некую "мощь". Так что
трусливость, вероятно, и есть величайшая, чрезмерная скованность
души, как, скажем, и затруднение, недоумевание есть ало, а также,
видимо, все, что метает идти вперед и передвигаться. Так что ясно:
"порочно двигаться" выражает сдерживаемое и затрудненное
передвижение, и, когда это происходит с душой, та преисполняется
порчи. Если же всем этим вещам будет имя "порочность", то
противоположное ему, видимо, будет "добродетель". "Добродетель"
означает прежде всего а легкое передвижение, а затем и вечно
свободное течение, полет доброй души, так что, видимо, "добродетель"
получила имя от вечного, неудержимого и беспрепятственного течения и
полета. Правильно поэтому было бы называть ее "вечная добродетель",
а может быть, "избранная" как наиболее желанное состояние,
сокращенно же она зовется "добродетель". Может быть, ты опять
скажешь, что все это я сочинил. Но я утверждаю: если сказанное
прежде об имени "порочность" правильно, то и это имя – "добродетель"
– правильно.
Гермоген. А что такое "зло", которое ты
много раз упоминал в связи с прежним? В чем значение этого имени?
Сократ. Клянусь Зевсом, это имя мне
кажется странным, и разгадать его трудно. Все же и к нему я применю
свое ухищрение.
Гермоген. Какое?
Сократ. Да скажу, что и в этом имени есть
что-то варварское.
Гермоген. И похоже, что ты правильно
говоришь. Но раз ты так считаешь, мы это оставим и давай попробуем
бросить взгляд на "прекрасное" и "постыдное" – насколько разумно
установлены эти имена?
Сократ. Итак, "постыдное" как раз
представляется мне вполне ясным, ведь то, что здесь подразумевается,
согласуется с прежде сказанным. Учредитель имен, мне думается,
порицал то, что препятствует потоку вещей и его сдерживает, и вот
тому, что постоянно останавливает этот поток, он определил имя
"постоостыдное" ; теперь же сокращенное его название – "постыдное".
Гермоген. А как обстоит дело с
"прекрасным" ?
Сократ. О, это уразуметь труднее всего.
Хотя говорят, что оно отклонилось только в своем звучании и по
долготе звука.
Гермоген. Как это?
Сократ. Видимо, это слово есть какое-то
наименование мысли.
Гермоген. Что ты имеешь в виду?
Сократ. Скажи, что, по-твоему, служит
причиной наименования каждой вещи? Разве не то, что устанавливает
имена?
Гермоген. Судя по всему, именно это.
Сократ. Разве нельзя сказать, что это –
мысль богов, либо людей, либо и тех и других?
Гермоген. Да.
Сократ. Так, значит, то, что именует вещи,
и прекрасное – это одно и то же, то есть мысль?
Гермоген. Очевидно.
Сократ. А ведь то, что создают ум и мысль,
похвально, прекрасно, то же, что исходит не от них, постыдно?
Гермоген. Разумеется.
Сократ. Так вот, врачебное искусство
создает врачебное дело, плотницкое искусство – плотницкое? Или как
ты скажешь?
Гермоген. Я скажу так же.
Сократ. Значит, прекрасная речь создает
прекрасное?
Гермоген. Должно быть, так.
Сократ. И то же самое, говорили мы, делает
разум?
Гермоген. Верно.
Сократ. Значит, верно, что "прекрасное" –
это имя разума, так как именно он делает такие вещи, которые мы с
радостью так называем.
Гермоген. Очевидно.
Сократ. В таком случае что еще у нас
осталось?
Гермоген. Имена, связанные с "добрым" и
"прекрасным ": "подходящее", "целесообразное", "полезное",
"прибыльное", и то, что им противоположно.
Сократ. Во всяком случае, имя "подходящее"
ты уже и сам сможешь определить исходя из рассмотренного ранее. Ибо
оно – как бы брат познания. Ведь оно выражает не что иное, как
хождение души подле вещей, и результат этого хождения и называется
"подходящим", или "удачей". А вот "корыстное" названо от корысти.
Если же ты заменишь дельту в этом слове на ню, станет ясно, что оно
значит, поскольку оно другим способом называет доброе и прекрасное.
Ведь оно, кроме того, проникает все вещи, смешиваясь с ними, и
установивший это имя подчеркнул эту его способность. Когда же вместо
ню вставили дельту, это имя стали произносить как теперь – "кердос".
Гермоген. А что ты скажешь о
"целесообразном"?
Сократ. Видимо, Гермоген, "целесообразное"
имеет не тот смысл, какой вкладывают в него торговцы, когда хотят
возместить расходы, но тот, что оно быстрее с всех вещей и не
позволяет им стоять на месте. Порыв не прекращается в своем движении
и не задерживается именно потому, что целесообразное отвращает от
него все то, что может привести его к завершению, и делает его
нескончаемым, бессмертным: вот поэтому, мне кажется, и нарекли
доброе "целесообразным", – ведь так называется то, что сообразует
порыв с целью, ее отдаляя. А "полезное" – это имя чужое. Есть слово
"офелейн", которым часто пользовался Гомер, оно значит
"приумножать". Так что "полезное" – это наименование увеличения и
созидания.
Гермоген. А что же у нас будет
противоположно этому?
Сократ. Имена, содержащие отрицание
чего-либо, мне кажется, нет нужды рассматривать.
Гермоген. Что именно?
Сократ. "Неподходящее", "бесполезное",
"нецелесообразное" и "неприбыльное".
Гермоген. Это правда.
Сократ. Однако нужно рассмотреть "вредное"
и "пагубное".
Гермоген. Да.
Сократ. Так вот, "вредное" означает в то,
что вредит несущемуся потоку. А "вредить" означает "желающее
схватить", или, что то же самое, "обвить веревкой", что во всех
отношениях вредит. Так что, видно, наиболее точно было бы назвать
то, что связывает поток, "вередное", а "вредным", мне
представляется, это зовут красоты ради.
Гермоген. Затейливые имена выходят у тебя,
Сократ. Мне сейчас кажется, будто ты выводишь на свирели вступление
к священной песне Афины, когда ты выговариваешь это слово
"вередное".
Сократ. Так ведь это не я виноват,
Гермоген, а те кто установил эти имена.
Гермоген. Это правда. Однако что же такое
"пагубное"?
Сократ. Что бы такое могло быть
"пагубное"? Смотри, Гермоген, насколько я прав, когда говорю, что
добавленные и отнятые буквы сильно изменили смысл имен, так что чуть
перевернешь слово, и ему можно придать прямо противоположное
значение. Так, например, обстоит со словом "должное", оно пришло мне
в голову, и я вспомнил в связи с ним, что собирался тебе сказать.
Наше великолепное новое наречие перевернуло вверх ногами значение
слов "обязанность" и "пагуба", затемнив их смысл, старое же
позволяет видеть, что они оба значат.
Гермоген. Как это?
Сократ. Сейчас скажу. Ты знаешь, наши
предки довольно часто пользовались йотой и дельтой, да и сейчас
женщины ими пользуются не меньше, а ведь они лучше других сохраняют
старую речь. А потом вместо йоты начали вставлять эпсилон или эту, а
вместо дельты – дзету, будто бы ради торжественности.
Гермоген. Как это?
Сократ. Например, древние называли день
"гимера", или другие – "гемера", а теперь его зовут "гэмера".
Гермоген. Да, это так.
Сократ. А знаешь ли ты, что лишь старое
имя выражает замысел учредителя? Ибо на радость и усладу людям
возникал свет из тьмы, поэтому его и назвали "сладень".
Гермоген. Очевидно.
Сократ. Теперь же у этих трагедийных
певцов и не сообразишь, что значит слово "день". Впрочем, некоторые
думают, что он так назван от слова "кроткий", потому что своей
мягкостью укрощает все живое.
Гермоген. Мне это нравится.
Сократ. Точно так же ты знаешь, что иго
древние называли "двоиго".
Гермоген. Да, да.
Сократ. Так вот, слово "иго" ничего не
выражает; справедливее называть его "двоиго", так как в него
впряжены двое, чтобы что-то двигать. А теперь говорят "иго". Да и со
многим другим обстоит так же.
Гермоген. Очевидно.
Сократ. Поэтому, во-первых, то, что мы
называем словом "обязанность", означает нечто противоположное всему
тому, что относится к добру. И хотя обязанность – это вид добра, все
же она представляется как бы уздой и помехой движению, словно
одновременно она сестра вредного.
Гермоген. Во всяком случае, это очень
правдоподобно, Сократ.
Сократ. Так нет же, если воспользоваться
старым именем. Оно, видимо, более правильно установлено, нежели
теперешнее, поскольку согласуется с рассмотренными выше добрыми
именами, если вместо эпсилона поставить йоту, как, вероятно, это и
было в древности. Ведь такое слово будет значить не "связывающее",
но "проникающее", а это-добро, и [присвоитель имени] это хвалит.
Таким образом, он не противоречит сам себе, но и "обязанность", и
"польза", и "целесообразность", н "выгода", и "добро", и
"подходящее", и "доступное" – все представляется одним и тем же,
обозначающим упорядочивающее и всепроницающее начало ], лишь
приукрашенное разными именами. А то, что удерживает и связывает, он
порицает. Так и "губительное" : если в согласии с древним наречием
поставить вместо дзеты дельту, тебе станет ясно, что это имя –
"дземиодес" – присвоено тому, что связывает идущее.
Гермоген. А что же "удовольствие",
"печаль", "вожделение" и тому подобное, Сократ?
Сократ. Это представляется мне не очень
трудным, Гермоген. Ведь то, что называется удовольствием, выражает,
видимо, действие, направленное на пользу, а дельта здесь вставная,
так что это зовется удовольствием вместо "удопольствия". А вот
печаль называется так, видимо, оттого, что эта страсть печет наше
тело. "Недуг" же – это то, что мешает идти. Что касается "болести",
то, мне кажется, это какое-то чуждое слово, образованное, видимо, от
"болезненного". "Напасть", видимо, называется так от внезапного
нападения печали. "Удрученность" вполне ясно означает трудность
порыва [движения ]. "Восторг" – исторгнутый и легко льющийся поток
души. "Наслаждение" – от "услады". Последняя же названа так, как
образ влекущегося сквозь душу веяния, и по справедливости должна
была бы называться "проникновеянием", но со временем превратилась в
"наслаждеянье". А вот "блаженство" – нет нужды говорить, почему дано
такое имя: вполне ясно, что взято оно от благого шествования души
вместе с вещами, и справедливее было бы ему называться
"блаженношеством", но тем не менее мы зовем его "блаженством".
Нетрудно и слово "вожделение", ибо ясно, что оно названо так от
какого-то наваждения, Бездействующего на дух. А "дух", верно, носит
это имя от "бушевания" и "кипения" души. "Влечением" же названа воля
к течению, поскольку в своем течении и устремлении к вещам оно и
душу с силой увлекает в этот поток, от этой-то способности оно и
называется "влечением". Да вот даже и имя страсти означает, что она
направлена не на присутствующий предмет и поток желания, но на
отдаленный, "отстраненный", откуда она и называется страстью. Когда
присутствует то, на что устремляется страсть, она называется
влечением, а страстью – когда это удалено. "Любовь", поскольку она
словно вливается извне (а не есть внутренний поток для того, кто ею
пылает), причем вливается через очи, в древности, верно, называлась
"льюбовь", ведь мы тогда пользовались о-микроном вместо о-меги.
Теперь же она называется "любовь" – после подстановки о-меги вместо
о-микрон. Однако что еще ты предлагаешь рассмотреть?
Гермоген. "Представление" и тому подобное.
Что ты об этом думаешь?
Сократ. Итак, представление названо так
либо от преследования, которое совершает душа, чтобы узнать, каким
образом существуют вещи, либо от падения стрелы. Похоже, что скорее
от последнего. Дело в том, что с этим согласуется и слово "мнение",
ведь это – несение души по направлению к вещи, любой из всего
сущего. Также и "воля" некоторым образом означает полет стрелы, а
"соизволение" означает устремление и совет. Все это, связанное с
представлением, очевидно, являет образ стрельбы, так же как и
"безволие", которое, напротив, представляется несчастьем, как если
бы кто-то не посылал стрел и не достигал своей цели – того, что он
хотел, о чем совещался и к чему стремился.
Гермоген. Мне кажется, Сократ, это ты уже
глубже захватываешь.
Сократ. Но ведь виден уже конец. Я хочу
напоследок рассмотреть еще "необходимость", так как она следующая в
этом ряду, и "добровольное действие", или "охоту". Так вот, "охота"
есть то, что отходит в сторону и уступает идущему. Но я полагаю, имя
это выражает уступку тому, что идет и совершается согласно желанию.
А вот "необходимое", противодействуя, направлено, таким образом,
против желания и относится, вероятно, к заблуждению и невежеству.
Это слово выражает движение через непроходимое ущелье,
труднодоступное, бугристое и заросшее, задерживающее движение.
Отсюда, верно, и название этого движения – "необходимое", намекающее
на то, что ущелье это нельзя обойти.
Но пока есть во мне силы, используем их. Однако и
ты не отпускай поводья, спрашивай дальше.
Гермоген. Я спрошу у тебя о самом великом
и прекрасном – об "истине", о "лжи" и "сущем", а также о том самом,
о чем у нас идет сейчас речь, – об "имени". Откуда эти имена?
Сократ. Так вот, называешь ли ты
что-нибудь словом "поймать"?
Гермоген. Называю. Это значит "искать".
Сократ. Видно, это слово не что иное, как
сокращенное выражение, в которое входит слово "имя", означающее то
сущее, коего достигает наш поиск. Скорее ты смог бы это понять из
выражения "называемое поименно здесь ясно сказано, что сущее – это
то, что уже поймано. А что касается "истины", похоже, что и это имя
составлено из других слов. Очевидно, им назван божественный порыв
сущего – так, как если бы это было божественным наитием. А вот
"ложь" – это имя противоположно порыву. Ведь все, что порицается,
обращается вспять и этой задержкой как бы принуждается к покою.
Поэтому имя "ложь" выражает лежание спящих звук "пси" придан этому
слову, чтобы скрыть значение имени. "Сущее" же и "сущность"
согласуются с именем "истина", так как здесь отнята йота, ибо
"существующее" означает "шествующее", а "не существующее" "несущее",
с как выражаются некоторые, означает в свою очередь "нешествующее".
Гермоген. Мне кажется, Сократ, ты это
здорово разобрал. Ну а если кто-нибудь спросил бы тебя: а
"шествующее", "текущее", "обязывающее" – какая правильность у этих
имен?
Сократ. Что бы мы ему ответили, говоришь
ты? Так?
Гермоген. Вот именно.
Сократ. Так ведь одно мы уже изобрели,
позволяющее нам казаться людьми, рассуждающими дельно.
Гермоген. Что же это такое?
Сократ. А вот: считать чем-то варварским
то, а чего мы не знаем. Какие-то имена, может быть, и правда таковы;
но может быть, что причина недоступности смысла первых имен – в их
глубочайшей древности: ведь после всевозможных извращений имен не
удивительно, что наш древний язык ничем не отличается от нынешнего
варварского.
Гермоген. Твои слова не лишены смысла.
Сократ. Да ведь я говорю очевидные вещи.
Впрочем, мне кажется, дело не терпит отлагательств, и нам нужно
обратиться к его рассмотрению. Вдумаемся же если кто-то непрестанно
будет спрашивать, из каких выражений получилось то или иное имя, а
затем начнет так же выпытывать, из чего эти выражения состоят, и не
прекратит этого занятия, разве не появится в конце концов
необходимость отказать ему в ответе?
Гермоген. Я допускаю это.
Сократ. Так когда же отвечающий вправе
будет это сделать? Не тогда ли, когда дойдет до имен, которые уже
выступают как бы в качестве первоначал, из которых состоят другие
имена и слова? Ведь мы не вправе подозревать, что и они состоят из
других имен, если они действительно простейшие. Например, мы
говорили, что имя "добро" состоит из "достойного удивления" и
"быстрого". Так вот мы могли бы сказать, что "быстрое" состоит из
других слов, те же – из третьих. Но если мы возьмем слово, которое
не состоит ни из каких других слов, то мы вправе будем сказать, что
подошли здесь к простейшей частице, которую уже не следует возводить
к другим именам.
Гермоген. Мне кажется, ты говоришь верно.
Сократ. Значит, и те имена, о которых ты
спрашиваешь, могут оказаться простейшими, и нужно уже другим
каким-то способом рассматривать, в чем состоит их правильность?
Гермоген. Похоже, что так.
Сократ. Конечно, похоже, Гермоген. Ведь
все слова, о которых мы уже говорили, видимо, восходят как раз с к
таким именам. Если это правильно, – а мне кажется, что это так, –
посмотри тогда вместе со мной, не вздор ли я несу, рассуждая о том,
какова правильность первых имен?
Гермоген. Ты только говори, а я уж буду
следить за рассуждением вместе с тобой, насколько я в силах.
Сократ. Ну с тем, что у всякого имени, и у
первого, и у позднейшего, правильность одна и та же и ни одно из них
не лучше другого как имя, думаю я, и ты согласен?
Гермоген. Разумеется.
Сократ. Далее, у тех имен, которые мы
рассматривали, правильность была чем-то таким, что указывало на
качества каждой вещи?
Гермоген. А как же иначе?
Сократ. Значит, это в равной степени
должны делать и первые, и позднейшие имена, коль скоро они суть
имена.
Гермоген. Верно.
Сократ. Но позднейшие, видно, были
способны выражать это через посредство первых
Гермоген. Видимо.
Сократ. Хорошо. А вот те, первые, которые
не заключают в себе никаких других, каким образом смогут они сделать
вещи для нас предельно очевидными, если только они действительно
имена? Ответь мне вот что: если бы у нас не было ни голоса, ни
языка, а мы захотели бы объяснить другим окружающие предметы, не
стали бы мы разве обозначать все с помощью рук, головы и вообще
всего тела, как делают это немые?
Гермоген. Другого способа я не вижу,
Сократ.
Сократ. Я думаю, если бы мы захотели
обозначить что-то вышнее и легкое, мы подняли бы руку к небу,
подражая природе этой вещи, если же что-то низкое и тяжелое, то
опустили бы руку к земле. Точно так же, если бы мы захотели
изобразить бегущего коня или какое-нибудь другое животное, ты ведь
знаешь, мы бы всем своим телом и его положением постарались походить
на них.
Гермоген. Безусловно, это должно быть так.
Сократ. Таким образом, выражение чего-либо
с помощью тела – это подражание тому, что выражает тело, которому
подражаешь.
Гермоген. Да.
Сократ. Когда ж мы хотим выразить что-то
голосом, языком и ртом, получается ли у нас выражение каждой вещи с
помощью этих членов тела, раз мы с их помощью подражаем чему бы то
ни было?
Гермоген. Непременно, как мне кажется.
Сократ. В таком случае имя, видимо, есть
подражание с помощью голоса тому, чему подражают, и имя тому, чему
подражают, дается при помощи голоса.
Гермоген. Мне кажется, так.
Сократ. Клянусь Зевсом, а вот мне не
кажется, что я хорошо сказал это, друг.
Гермоген. Почему?
Сократ. Нам пришлось бы тогда признать,
что те, кто подражает овцам, петухам и другим животным, дают им
имена тем самым, что им подражают?
Гермоген. Это верно.
Сократ. И тебе кажется, здесь все в
порядке?
Гермоген. Да нет, по правде сказать.
Однако, Сократ, какое подражание было бы именем?
Сократ. Ну прежде всего, мне кажется, не
такое какое бывает тогда, когда мы подражаем вещам музыкой, хотя и
тогда мы подражаем с помощью голоса; далее, и не такое, какое
бывает, когда мы подражаем тому же в вещах, чему подражает музыка,
мне не кажется, что тогда мы даем имя. А утверждаю я вот что: у
каждой вещи есть звучание, очертания, а у многих и цвет?
Гермоген. Разумеется.
Сократ. Искусство наименования, видимо,
связано не с таким подражанием, когда кто-то подражает подобным
свойствам вещей. Это дело, с одной стороны, музыки, а с другой –
живописи. Не так ли?
Гермоген. Да.
Сократ. А подражание, о котором мы
говорим, что собой представляет? Не кажется ли тебе, что у каждой
вещи есть еще и сущность, как есть цвет и все то, о чем мы здесь
говорили? Во-первых, у самого цвета или звука нет разве какой-то
сущности? Да и у всего другого, что только заслуживает наименования
бытия?
Гермоген. Я полагаю.
Сократ. Так что же? Если кто-то мог бы
посредством букв и слогов подражать в каждой вещи именно этому,
сущности, разве не смог бы он выразить каждую вещь, которая
существует? Или это не так?
Гермоген. Разумеется, так.
Сократ. А как бы ты назвал того, кто
способен это делать, если тех ты только что назвал: одного –
музыкантом, другого – живописцем? Как же мы назовем этого?
Гермоген. Мне кажется, Сократ, тот, кого
мы давно уже ищем, будет мастер давать имена.
Сократ. а Если это верно, то теперь уже
следует рассмотреть те имена, о которых ты спрашивал, – "течение",
"шествие", "владение": схватывает ли мастер с помощью букв и слогов
сущность вещей, чтобы ей подражать, или же нет.
Гермоген. Да, это верно.
Сократ. Тогда давай посмотрим, только ли
это – первые имена, или есть еще много других?
Гермоген. Думаю, есть и другие.
Сократ. Видимо. Однако какой бы нам найти
способ различения того, где именно начинает подражать подражающий?
Коль скоро это будет подражанием сущему посредством слогов и букв,
то не правильнее ли всего начать с различения простейших частиц, как
это делают те, кто приступает к определению стихотворного размера:
сначала они различают значение звуков, затем слогов и только после
этого начинают рассматривать размер, ведь верно?
Гермоген. Да.
Сократ. Не так ли и нам нужно сначала
различать гласные, а затем в соответствии с их видами остальные –
безгласные и беззвучные (ибо знатоки называют их так) и, наконец,
те, которые не назовешь ни беззвучными, ни безгласными. Надо также
посмотреть, сколько есть различных между собой видов гласных. И
когда мы все это различим как следует, тогда опять нужно будет
возвратиться к сущностям и их именам и посмотреть, нет ли таких
имен, к которым бы все сводились как к составным частям и из которых
можно было бы видеть, что они означают, а также не различаются ли
эти имена по видам подобно простейшим частицам. Хорошенько все это
рассмотрев, нужно уметь найти для каждой [вещи] наиболее
соответствующее ей [имя]: либо одно слово связать с одной вещью,
либо отнести к этой вещи смесь из многих слов. Как живописцы, желая
что-нибудь изобразить, иногда берут только пурпур, а иногда и другие
краски на выбор, а бывает и так, что смешивают многие краски между
собой, например когда пишут человеческое лицо или что-нибудь в этом
роде, так, по-моему, и всякое изображение требует своих средств. И
мы будем примерять звуки к вещам – то один к одной вещи, какого та
потребует, то многие вместе, образуя то, что называют слогами, а
затем соединять слоги, из которых уже будут состоять слова и
выражения. Далее из слов и выражений мы составим некое большое,
прекрасное целое наподобие живописного изображения, а затем и все
рассуждение – по законам искусства присвоения имен, красноречия или
как бы его ни звать. Скорее же не мы – это я просто увлекся: так
составили имена еще древние, и в таком виде они и посейчас остаются;
если же мы сумеем рассмотреть все эти имена со знанием дела и
установить, существует ли способ, по которому присвоены и первые
имена, и позднейшие, или такого способа нет, наша задача будет
выполнена. В противном случае, как бы наш разговор не пропал впустую
и не отклонился бы в сторону, милый мой Гермоген.
Гермоген. Клянусь Зевсом, Сократ, это
может случиться.
Сократ. Так что же? Ты уверен в себе, что
ты можешь все это именно так разобрать? Я, например, нет.
Гермоген. Так ведь и мне далеко до этого.
Сократ. Тогда оставим это. Или, хочешь,
рассмотрим это хотя бы так, как сможем, и если окажемся способными
обозреть хоть немногое, то давай возьмемся за это, сказав себе
заранее, как немного раньше сказали с богам, что, не зная о них
ничего истинного, мы прилагаем к ним человеческие мерки: скажем
себе, что если есть хоть малая польза в том, чтобы мы или кто-то
другой это исследовал, то это, пожалуй, следует сделать. Теперь же,
как говорится, мы должны будем по мере сил потрудиться на этом
поприще. Ты согласен или нет?
Гермоген. Я полностью с тобою согласен.
Сократ. Смешным, я думаю, должно казаться,
Гермоген, что из подражания посредством букв и слогов вещи станут
для нас совершенно ясными. Однако это неизбежно, ибо у нас нет
ничего лучшего, к чему мы могли бы прибегнуть для уяснения
правильности первых имен, если, конечно, ты не хочешь, чтобы мы, как
это делают трагические поэты в затруднительных случаях, прибегли к
специальным приспособлениям, с помощью которых они поднимают наверх
богов ; ты ведь не хочешь, чтобы и мы так же отделались от нашего
предмета, сказав, что первые имена установили боги и потому они
правильны? Или и для нас это лучший выход? А может быть, нам
сказать, что они взяты у каких-нибудь варваров, а варвары нас
древнее? Или что за древностью лет эти имена так же невозможно
рассмотреть, как и варварские? Ведь все это были бы увертки, и
довольно изящные, для того, кто не хочет рассуждать о первых именах
и допытываться, насколько правильно они установлены. А между тем,
если он почему бы то ни было не знает правильности первых имен, он
не сможет узнать и позднейшие, ибо по необходимости они выражаются
через те самые первые, о которых он ничего не знает. А ведь тот, кто
заявляет, будто он сведущ в именах, должен уметь особенно ясно
показать свое искусство на первых именах или же хорошенько
запомнить, что и о позднейших он болтает вздор. Или ты так не
думаешь?
Гермоген. Нет, Сократ, именно так.
Сократ. Но все-таки то, что я почувствовал
в первых именах, кажется мне заносчивым и смешным. С тобой я,
конечно, этим поделюсь, коли хочешь. Если же ты можешь где-то найти
лучший ответ, постарайся и ты поделиться со мной.
Гермоген. Так я и сделаю. Но говори
смелей.
Сократ. Итак, прежде всего представляется
мне средством [выразить] всякое движение. Кстати, мы не говорили,
откуда это имя – "движение". Однако ясно, что слово это то же самое,
что и "хождение", так как в древности мы употребляли не эту, а
эпсилон. Начало же его – от слова : имя это чужое, а значит оно то
же самое, что и слово "идти". Так что если бы кто-нибудь нашел
древнее название движения, соответствующее нашему языку, то
правильнее он назвал бы его "идение". Теперь же от иноземного слова
после подстановки эты на место эпсилона и вставки ню оно называется
"движением", хотя его следовало бы называть "двигидение". А слово
"стояние" означает отсутствие движения и называется "стоянием" для
красоты. Так вот этот звук, как я говорю, показался присвоителю имен
прекрасным средством выражения движения, порыва, и он много раз
использовал его с этой целью. Прежде всего сами имена "река" – от
слова (течь) – и "стремнина" подражают порыву благодаря этому звуку;
затем слова "трепет", "обрывистый", а еще такие глаголы, как
"ударять", "крушить", "рвать", "рыть", "дробить", "вертеть" – все
они очень выразительны благодаря. Я думаю, законодатель видел, что
во время произнесения этого звука язык совсем не остается в покое и
сильнейшим образом сотрясается. Поэтому, мне кажется, он и
воспользовался им для выражения соответствующего действия. А йотой
он воспользовался для выражения всего тонкого, что могло бы
проходить через вещи. Поэтому "идти" и "ринуться" он изобразил с
помощью йоты. Так же с помощью звуков пси, сигмы и дзеты (это как бы
"дышащие" звуки) он, давая вещам названия, подражал сходным их
свойствам. Например, так он обозначил "студеное", "шипучее",
"тряску" и вообще всякое сотрясение. И когда, давая имена, он
подражал чему-либо вспенившемуся, то всюду, как правило, вносил эти
звуки. В свою очередь сжатие языка при произнесении дельты и упор
при произнесении полезно, кажется, применить для выражения
скованности уздою и стояния. А так как при произнесении ламбды язык
очень сильно скользит, опускаясь вниз, то, пользуясь уподоблением,
он так дал имена "гладкому", "скользящему", "лоснящемуся",
"смолистому" и прочим подобным вещам. Скольжению же языка на звуке
ламбда, когда он подражает "клейкому", "сладкому" и "липкому",
препятствует сила звука гамма. Почувствовав внутренний отзвук голоса
при звуке ню, он, как бы отражая это в звуках, дал имена
"внутреннее" и "потаенное". В свою очередь альфу присвоил
"громадному", эту – "величине", поскольку это долгие звуки. А для
выражения "округлого" ему необходим был о-микрон, его-то он и
вставлял по большей части в подобные имена. Так же, я думаю, и во
всем остальном: он подбирал по буквам и слогам знак для каждой вещи
и таким образом создавал имена. А последующие имена он составлял уже
из этих, действуя подобным же образом. Вот какова, мне а кажется,
Гермоген, должна быть правильность имен, если только Кратил
чего-нибудь не возразит.
Гермоген. Много же забот, Сократ, доставил
мне Кратил! Да ведь я тебе с самого начала об этом толковал. Он
говорил, что существует некая правильность имен, хотя на вопрос,
какова она, не отвечал ничего определенного, так что нельзя
разобрать, с умыслом или нет он каждый раз затемняет дело. Так вот,
скажи же мне в присутствии Сократа, Кратил, доволен ли ты тем, что
говорит Сократ об именах, или ты можешь сказать лучше? Если можешь,
скажи, чтобы тебе либо у Сократа поучиться, либо научить нас обоих.
Кратил. Как, Гермоген? Тебе кажется, что
это легко – столь быстро выучиться или научить какому-либо делу,
вплоть до такого, которое относится уже к величайшим?
Гермоген. Клянусь Зевсом, мне-то не
кажется. Но по-моему, прекрасно сказано у Гесиода, что если к малому
приложить даже малое, и то дело продвинется вперед. Так что хоть
малую толику ты можешь добавить: не сочти это за труд и окажи
милость нашему Сократу, а по справедливости – и мне.
Сократ. Да к тому же, Кратил, заметь, я
ведь ни на чем не настаиваю из того, что говорил. Просто я
рассмотрел с Гермогеном вместе, как мне все это представлялось, так
что говори смело, если знаешь что-то лучшее, ведь я приму это с
охотой. Еще бы, я и не удивился бы, если бы ты умел лучше сказать об
этом. Ведь мне сдается, ты и сам над этим размышлял, и учился у
других. Так что если ты скажешь что-то лучшее, запиши и меня одним
из своих учеников в науке о правильности имен.
Кратил. Конечно, Сократ, занимайся я этим
на самом деле, как ты говоришь, я может быть и сделал бы с тебя
своим учеником. Боюсь все же, как бы не получилось наоборот, потому
что мне пришло в голову применить к тебе слова Ахилла, которые он
произносит в "Мольбах", обращаясь к Аяксу. Говорит же он вот что:
Сын Теламонов, Аякс благородный, властитель
народа!
Все ты, я чувствую сам, говорил по душе мне.
Так и мне, Сократ, будто прямо в душу запали твои
прорицания: то ли ты вдохновлен Евтифроном, то ли в тебе давно уже
таилась еще какая-то муза.
Сократ. Добрый мой Кратил, я и сам давно
дивлюсь своей мудрости и не доверяю ей. Видимо, мне еще самому нужно
разобраться в том, что я, собственно, говорю. Ибо тяжелее всего быть
обманутым самим собой. Ведь тогда обманщик неотступно следует за
тобой и всегда находится рядом, разве это не ужасно? И потому,
видно, нам следует чаще оглядываться на сказанное и пытаться, по
словам того же поэта, "смотреть одновременно и вперед и назад". Вот
и теперь давай посмотрим, что у нас уже сказано. Правильность имени,
говорили мы, состоит в том, что оно указывает, какова вещь. Будем
считать, что этого достаточно?
Кратил. Мне кажется, вполне, Сократ.
Сократ. Итак, имена даются ради обучения?
Кратил. Разумеется.
Сократ. Так не сказать ли нам, что это –
искусство и что существуют люди, владеющие им?
Кратил. Это верно.
Сократ. Кто же они?
Кратил. А вот те, о ком ты говорил
вначале, учредители [имен].
Сократ. А не скажем ли мы в таком случае,
что это искусство бытует среди людей таким же образом, как все
остальные? Я хочу сказать вот что: случается, что одни живописцы –
хуже, другие – лучше?
Кратил. Разумеется.
Сократ. И одни из них создают лучшие
живописные произведения, а другие – худшие? И домостроители так же:
одни строят дома лучше, другие – хуже?
Кратил. Да.
Сократ. Следовательно, так же и
законодатели: у одних то, что они делают, получается лучше, у других
– хуже?
Кратил. Я этого пока не нахожу.
Сократ. Значит, ты не находишь, что одни
законы бывают лучше, другие – хуже?
Кратил. Конечно, нет.
Сократ. Тогда, видимо, и имена ты не
находишь одни худшими, другие – лучшими?
Кратил. Нет, конечно.
Сократ. Выходит, что все имена установлены
правильно?
Кратил. По крайней мере те, что
действительно суть имена.
Сократ. Что же, дело обстоит так, как мы
говорили об этом раньше: вот Гермогену его имя либо совсем не с
принадлежит – если происхождение от Гермеса не имеет к нему
отношения, – либо, хотя оно ему и присвоено, присвоено неверно?
Кратил. Мне кажется, оно не принадлежит
ему, Сократ, а только кажется принадлежащим; принадлежит же оно
другому человеку, чья природа соответствует его имени.
Сократ. Так не лжет ли тот, кто называет
его Гермогеном? Или же вообще невозможно сказать, что он Гермоген,
если он не Гермоген?
Кратил. Почему?
Сократ. Разве твое утверждение не
означает, что вообще невозможно произнести ложь? А ведь многие
именно это и утверждают, друг мой Кратил, – и теперь, и утверждали
прежде.
Кратил. Как же можно, Сократ, говоря о
чем-то, говорить о том, что не существует? Или это не значит
произносить ложь – говорить о вещах несуществующих?
Сократ. Это слишком хитро сказано,
дружище, для меня и моих лет. Но скажи мне вот что: по-твоему,
утверждать что-либо ложное нельзя, а произнести вслух – можно?
Кратил. Нет, мне кажется, и произнести
вслух нельзя также.
Сократ. Ни сказать и ни обратиться?
Например, если кто-нибудь встретил бы тебя на чужбине и, взяв за
руку, сказал: "Здравствуй, гость афинский, сын Смикриона,
Гермоген!", то утверждал ли бы он это, или так просто высказался,
или произнес в качестве обращения, относилось бы это к тебе или вот
к этому Гермогену? Или вообще ни к кому?
Кратил. Мне кажется, Сократ, что он вообще
напрасно издавал бы все эти звуки.
Сократ. Заманчиво и это суждение. А все же
истинные звуки он издавал бы или ложные? Или часть их была бы
истинной, а часть ложной? Ведь и этим бы я удовольствовался.
Кратил. Я бы сказал, что это пустой звук.
Напрасный труд ему себя тревожить, все равно как впустую размахивать
кулаками.
Сократ. Ну хорошо. Давай чуть-чуть
отвлечемся, Кратил. Может быть, ты согласишься, что одно дело – имя,
а другое – кому оно принадлежит?
Кратил. Ну положим.
Сократ. А согласен ли ты, что имя есть
некое подражание вещи?
Кратил. В высшей степени.
Сократ. Не полагаешь ли ты, что и
живописные изображения – это подражания каким-то вещам, но
подражания, выполненные неким иным способом?
Кратил. Да.
Сократ. Ну хорошо... Может быть, я чего-то
не улавливаю в твоих словах, и, скорее всего, ты говоришь правильно.
Скажи, можно ли различать эти изображения в их отношении к вещам,
подражания которым они собой представляют, или же нет?
Кратил. Можно.
Сократ. Итак, во-первых, смотри, может ли
кто-то отнести изображение мужчины к мужчине, а изображение женщины
– к женщине и остальное таким же образом?
Кратил. Разумеется.
Сократ. А наоборот – изображение мужчины
отнести к женщине, а изображение женщины – к мужчине?
Кратил. Может случиться и так.
Сократ. И оба этих распределения будут
правильными? Или только одно из двух?
Кратил. Только одно.
Сократ. Я думаю, только то, которое
отнесет к каждой вещи то, что ей подобает и на нее похоже?
Кратил. Мне кажется, так.
Сократ. Тогда, чтобы нам, друзьям, не
препираться из-за слов, прими то, что я говорю. Ведь в обоих случаях
подражания, дружище, – и с помощью живописных изображений, и с
помощью наименования – я назову правильным только такое вот
распределение, а в случае с именами я назову его, кроме того, еще
истинным; другое же, которое соотносит и сопоставляет с вещами то,
что на них непохоже, я назову неправильным и вдобавок ложным, когда
это касается имен.
Кратил. А ты не боишься, Сократ, что если
в живописи это и возможно – неправильно распределять изображения, то
в именах – никак, но распределение здесь всегда непременно должно
быть правильным?
Сократ. Ну как ты можешь так говорить!
Какая же здесь разница? Разве нельзя подойти к мужчине и со словами:
"Вот твое изображение" – показать ему что придется: либо его
изображение, либо жены? Показать – я имею в виду заставить его
воспринять это зрительно.
Кратил. Разумеется, можно.
Сократ. А подойти к нему же и сказать:
"Вот твое имя"? Ведь имя тоже в некотором роде есть подражание, как
и картина. Так вот, сказать ему: "Это – твое имя", а затем заставить
его воспринять на слух что придется: либо имя, подражающее ему,
говоря при этом, что он мужчина, либо имя какой-либо смертной жены,
говоря, что он – женщина. Не кажется ли тебе, что это возможно и
случается иногда?
Кратил. Мне хотелось бы согласиться с
тобой, Сократ. Пусть будет так.
Сократ. Вот и прекрасно, друг мой, если
это и вправду так. Ведь не следует нам уж очень из-за этого спорить.
Так что если существует какое-то распределение и здесь, то один вид
его нам нужно назвать истинным, другой же – ложным. Далее, если это
так и можно распределять имена неверно, относя к вещам не то, что им
подобает, но иногда и то, что им не подходит, то таким же образом
можно составлять и выражения. Если же можно так устанавливать
выражения и имена, то непременно можно и целые высказывания. Ведь
высказывание, я думаю, так или иначе из них состоит. Или не так,
Кратил?
Кратил. Так. Мне кажется, ты говоришь
прекрасно.
Сократ. Если мы еще раз уподобим первые
имена картинам, то скажем, что, как в живописи, в них можно
воплотить все подобающие цвета и очертания, а иной раз и не все –
некоторые можно опустить, некоторые добавить в большей или в меньшей
мере. Или так сделать нельзя?
Кратил. Можно.
Сократ. В таком случае тот, кто воссоздает
все прекрасные черты, воссоздает и облик предмета, а тот, кто
некоторые черты добавляет или отнимает, хотя и отразит облик
предмета, но сделает это худо.
Кратил. Да.
Сократ. Ну а тот, кто подражает сущности вещей с
помощью слогов и букв? С таким же успехом и он, если отразит все
подобающие черты, получит прекрасное изображение, которое и будет
именем; если же он какие-то черты опустит, а иной раз и добавит, то,
хотя и получится какое-то изображение, оно не будет прекрасным! Так
что и среди имен одни будут хорошо сделаны, а другие – худо?
Кратил. Возможно.
Сократ. Значит, возможно, что один мастер
имен будет хорошим, другой же – плохим?
Кратил. Да.
Сократ. Но ведь мы назвали его
"законодателем"?
Кратил. Да.
Сократ. Значит, возможно, клянусь Зевсом,
чтобы, как и в других искусствах, один законодатель был хорошим,
другой же – худым, коль скоро ты согласен с прежним моим
утверждением.
Кратил. Да, это так. Но взгляни и ты,
Сократ, когда мы эти буквы – альфу, бету и любую другую –
присваиваем именам по всем правилам грамматики, то, если мы что-то
отнимем или добавим, или переставим, ведь нельзя будет сказать, что
имя написано, хоть и неправильно: ведь оно вообще не будет написано
и тотчас станет другим именем, если претерпит что-либо подобное.
Сократ. Ты не боишься, Кратил, что из
такого рассмотрения у нас не выйдет ничего хорошего?
Кратил. Почему это?
Сократ. Может быть, с теми вещами, которые
существуют или не существуют в зависимости от того или иного
количества, дело так и обстоит, как ты говоришь: скажем, если к
десяти или любому другому числу что-то прибавить или отнять, тотчас
получится другое число. Но у изображения чего-то определенного и
вообще у всякого изображения совсем не такая правильность, но,
напротив, вовсе не нужно воссоздавать все черты, присущие предмету,
чтобы получить образ. Смотри же, так ли я рассуждаю? Будут ли это
две разные вещи – Кратил и изображение Кратила, если кто-либо из
богов воспроизведет не только цвет и очертания твоего тела, как это
делают живописцы, но и все, что внутри, – воссоздаст мягкость и
теплоту, движения, твою душу с и разум – одним словом, сделает все,
как у тебя, и поставит это произведение рядом с тобой, будет ли это
Кратил и изображение Кратила, или это будут два Кратила?
Кратил. Два Кратила, Сократ. Мне по
крайней мере так кажется.
Сократ. Так что видишь, друг мой, нужно
искать какой-то иной правильности изображений и того, о чем мы здесь
говорим, и не следует настаивать на том, что если чего-то недостает
или что-то есть в избытке, то это а уже не изображение. Или ты не
чувствуешь, сколького недостает изображениям, чтобы стать
тождественными тому, что они воплощают?
Кратил. Нет, я чувствую.
Сократ. Да ведь смешные вещи, Кратил,
творились бы с именами и вещами, которым принадлежат эти имена, если
бы они были во всем друг другу тождественны. Тогда все бы словно
раздвоилось, и никто не мог бы сказать, где он сам, а где его имя.
Кратил. Это правда.
Сократ. Поэтому смелее допусти,
благородный друг, что одно имя присвоено хорошо, другое же – нет. И
не настаивай на том, что имя должно иметь лишь такие звуки, какие
делали бы его полностью тождественным вещи, которой оно присвоено.
Допусти, что и какая-то неподходящая буква может тут быть добавлена.
А если может быть добавлена буква, то и имя в высказывании, если же
имя, то и не подобающее вещам выражение может встретиться в речи, но
от этого ничуть не хуже можно называть вещи и рассуждать о них, пока
сохраняется основной облик вещи, о которой идет речь, как, скажем, в
названиях букв: ты, может быть, помнишь, что именно мы с Гермогеном
уже говорили здесь по этому поводу.
Кратил. Я хорошо это помню.
Сократ. Вот и отлично. Пока сохраняется
этот основной вид, пусть отражены и не все подобающие черты, все
равно можно вести речь о данной вещи. Если отражены все подобающие
черты – прекрасно, если же малая часть их – то плохо. Так бросим,
милый мой, этот разговор, чтобы нас не обвинили в том, что мы,
подобно эгинетам, поздней ночью обходящим дорогу, и в самом деле
вышли в путь позднее, чем следовало. Или уж поищи тогда какой-нибудь
другой правильности и не соглашайся, что имя есть выражение вещи с
помощью букв и слогов. Ведь если ты признаешь и то и другое, то
окажешься не в ладу с самим собой.
Кратил. Мне кажется, Сократ, ты говоришь
ладно. Я с тобою во всем согласен.
Сократ. Ну раз мы оба так думаем, давай
теперь рассмотрим вот что: если, скажем, имя установлено хорошо, то
должно оно содержать подобающие буквы?
Кратил. Да.
Сократ. А подобают вещам?
Кратил. Разумеется.
Сократ. Следовательно, так присваивается
хорошо составленное имя. Если же какое-то имя присвоено плохо, то,
верно, в большей своей части оно будет состоять из подобающих букв –
подобных вещи, – раз оно все-таки останется изображением, но при
этом оно будет иметь и неподобающие буквы, из-за чего мы скажем, что
это неправильное имя и присвоено худо. Так или нет?
Кратил. Я думаю, нам с тобой не стоит
сражаться, Сократ, хотя мне не нравится называть что-либо именем, но
говорить при этом, что оно плохо присвоено.
Сократ. А может быть, тебе вообще не
нравится, что имя есть выражение вещи?
Кратил. Да, если говорить обо мне.
Сократ. Но то, что одни имена составлены
из более ранних, другие же – самые первые, это, по-твоему, хорошо
сказано?
Кратил. По-моему, да.
Сократ. Однако, если первые имена должны
быть выражением чего-либо, знаешь ли ты иной, лучший способ создать
эти выражения, нежели сделать их возможно более тождественными тому,
что они должны выразить? Или тебе больше нравится вот этот способ –
о нем говорит Гермоген и многие другие, – что имена – это результат
договора и для договорившихся они выражают заранее известные им
вещи, и в этом-то и состоит правильность имен – в договоре, – и
безразлично, договорится ли кто-то называть вещи так, как это было
до сих пор, или наоборот: например, то, что теперь называется малым,
он договорится звать великим, а что теперь великим – малым. Так
который из способов нравится тебе больше?
Кратил. Ну, это совсем разные вещи,
Сократ, – выражать что-то с помощью подобия или как попало.
Сократ. Ты говоришь отлично. В таком
случае если имя будет подобно вещи, то по природе необходимо, чтобы
и буквы, из которых составлены первые имена, были подобны вещам.
Разве не так? Я утверждаю, что никто не смог бы сделать то, что мы
теперь называем рисунком, подобным какой-либо из сущих вещей, если
бы от природы не существовало средств, из которых складывается
живописное изображение, подобных тем вещам, каким подражает
живопись. Или это возможно?
Кратил. Нет, невозможно.
Сократ. В таком случае и имена так же
точно не могли бы стать чему-то подобными, если бы не существовало
начал, содержащих какую-то исконную правильность, из которых
составляются имена для тех вещей, которым они подражают. А эти
начала, из которых нужно составлять имена, ведь не что иное, как
звуки?
Кратил. Да.
Сократ. Теперь и ты признал то, что еще
раньше признал Гермоген. Скажи, хорошо ли, по-твоему, говорить, что
буква ро соответствует порыву, движению и в то же время твердости?
Или нехорошо?
Кратил. По-моему, хорошо.
Сократ. А ламбда – гладкости,
податливости, ну и всему тому, о чем мы говорили?
Кратил. Да.
Сократ. А знаешь ли ты, что мы произносим
"склеротэс", а эретрийцы говорят "склеротэр"?
Кратил. Верно.
Сократ. Значит, ро и сигма похожи друг на
друга? И это слово выражает одно и то же для них, оканчиваясь на ро,
и для нас, оканчиваясь на сигму? Или для кого-то из нас оно этого не
выражает?
Кратил. Но ведь оно выражает одно и то же
для тех и других.
Сократ. Потому ли, что ро и сигма в чем-то
подобны, или потому, что нет?
Кратил. Потому что в чем-то подобны.
Сократ. Может быть, в таком случае они
подобны во всех отношениях?
Кратил. Вероятно, когда нужно выразить
порыв.
Сократ. А вставленная ламбда? Разве она не
выражает того, что противоположно твердости?
Кратил. Но ведь может быть, что она
вставлена неправильно, Сократ, как это оказывалось недавно в тех
случаях, когда ты объяснял какие-то слова Гермогену, отнимая и
добавляя буквы где следует: мне казалось, что ты делаешь это
правильно. Так же и теперь, вероятно, вместо ламбды нужно говорить
ро.
Сократ. Прекрасно. Так что же? Из того,
что мы здесь сказали, получается, что мы не поймем друг друга, если
кто-то скажет "склерон" ? И ты тоже не понимаешь, что я сейчас
говорю?
Кратил. Ну я-то понимаю уж по привычке,
добрейший мой.
Сократ. Вот ты говоришь "по привычке ": ты
понимаешь под этим нечто отличное от договора? Или ты называешь
привычкой что-то иное, не то, что я, то есть не то, что, произнося
какое-то слово, я подразумеваю нечто определенное, ты же из моих
слов узнаёшь, что я подразумеваю именно это? Не так ли?
Кратил. Так.
Сократ. И если ты узнаёшь это тогда, когда
я произношу какое-то слово, то можно сказать, что я как бы сообщаю
тебе что-то?
Кратил. Да.
Сократ. А я вдруг, подразумевая что-то,
стану произносить непохожие на это звуки, – коль скоро ламбда не
похожа на то, что ты назвал "склеротэс". Если же это так, то ты
сделал не что иное, как договорился с самим собой, и правильность
имен для тебя оказывается договором, коль скоро выражать вещи могут
и подобные и неподобные буквы, случайные, по привычке и договору. А
если под привычкой ты подразумеваешь вовсе не договор, то суди сам,
хорошо ли говорить, что выражение состоит в подобии, а не в
привычке? Ведь по привычке, видимо, можно выражать вещи как с
помощью подобного, так и с помощью неподобного. Если же мы в этом
согласимся, Кратил, – а твое молчание я принимаю за согласие, – нам
необходимо договор и привычку как-то соотнести с выражением того,
что мы подразумеваем, когда произносим слова. Затем, милейший мой,
если тебе угодно обратиться к числу, откуда, думаешь ты, взяты
имена, подобающие каждому из чисел, если ты не допустишь, что
условие и договор с имеют значение для правильности имен? Мне и
самому нравится, чтобы имена по возможности были подобны вещам, но,
чтобы уж и впрямь не было слишком скользким, как говорит Гермоген,
это притягивание подобия, необходимо воспользоваться и этим досадным
способом – договором – ради правильности имен. Мы, верно, тогда
говорили бы лучшим из всевозможных способов, когда либо все, либо
как можно большее число имен были подобными, то есть подходящими, и
хуже всего говорили бы, если бы дело обстояло наоборот. Но вот что
скажи мне: какое значение имеют для нас имена и что хорошего, как мы
бы сказали, они выполняют?
Кратил. Мне кажется, Сократ, они учат. И
это очень просто: кто знает имена, тот знает и вещи.
Сократ. Наверное, Кратил, ты имеешь в виду
что-то в таком роде: когда кто-то знает имя, каково оно, – а оно
таково же, как вещь, – то он будет знать и вещь, если только она
оказывается подобной имени, так что это искусство одинаково для всех
взаимоподобных вещей. Мне кажется, именно поэтому ты сказал: кто
знает имена, знает и вещи.
Кратил. Эти слова – сама истина.
Сократ. Тогда давай посмотрим, что это за
способ обучения вещам, который ты здесь называешь, и нет ли
какого-нибудь другого способа – причем этот оставался бы наилучшим,
– или вообще нет никакого другого. Как ты думаешь?
Кратил. Я по крайней мере считаю так:
другого способа не существует, этот способ единственный и наилучший.
Сократ. А может быть, в этом же состоит и
постижение вещей: кто постигнет имена, тот постигнет и то, чему
принадлежат эти имена. Или исследовать и постигать вещи нужно иным
каким-то способом? А это – способ учиться вещам?
Кратил. Ну конечно, это способ
исследования и постижения вещей, и по той же самой причине.
Сократ. Тогда давай поразмыслим, Кратил.
Если кто-то в своем исследовании вещей будет следовать за именами и
смотреть, каково каждое из них, не думаешь ли ты, что здесь есть
немалая опасность ошибиться?
Кратил. Каким образом?
Сократ. Ведь ясно, что первый учредитель
имен устанавливал их в соответствии с тем, как он постигал вещи. Мы
уже говорили об этом. Или не так?
Кратил. Так.
Сократ. Значит, если он постигал их
неверно, а установил имена в соответствии с тем, как он их постигал,
то что ожидает нас, доверившихся ему и за ним последовавших? Что,
кроме заблуждения?
Кратил. Думаю, это не так, Сократ.
Необходимо, чтобы имена устанавливал знающий учредитель. В противном
случае, как я уже говорил раньше, это не имена. Да вот тебе
вернейшее свидетельство того, что законодатель не поколебал истины:
ведь иначе у него не могло бы все быть так стройно. Разве ты не
видишь этого – ты, который говорил, что все имена возникли по одному
и тому же способу и направлены к одному и тому же?
Сократ. Но знаешь, друг мой Кратил, это не
оправдание. Ведь если учредитель обманулся в самом начале, то и
остальное он поневоле делал уж так же, насильно согласовывая
дальнейшее с первым. В этом нет ничего странного, так же ведь и в
чертежах: иногда после первой небольшой и незаметной ошибки все
остальное уже вынужденно следует за ней и с ней согласуется. Поэтому
каждому человеку нужно более всего внимательным быть при начале
всякого дела, и тогда нужно обдумать, правильно или нет он
закладывает основание. А коль скоро это достаточно испытано,
остальное уже явится следом. Я бы как раз не удивился, если бы имена
действительно согласовались друг с другом. Давай же снова вернемся к
тому, что мы уже разобрали. Мы говорили, что имена обозначают
сущность вещей так, как если бы все сущее шествовало, неслось и
текло. Не кажется ли тебе, что они выражают что-то другое?
Кратил. Разумеется, нет. Это значение
правильно.
Сократ. Тогда давай посмотрим, выбрав
сначала из такого рода имен слово "знание". Ведь оно двойственно и
скорее, видимо, означает, что душа стоит подле вещей, нежели что она
несется вместе с ними, и правильнее, вероятно, начало этого слова
произносить так, как мы теперь его произносим, делая наращение не к
эпсилону, но к йоте. Затем слово "устойчивость" есть скорее
подражание каким-то устоям и стоянию а не порыву. Так же и "наука"
обозначает некоторым образом то, что останавливает течение реки. И
"достоверное", судя по всему, означает стояние. Затем "память"
скорее всего указывает на то, что в душе унялись какие-то порывы. А
"проступок", если угодно, и "несчастье" если кто проследит эти
имена, окажутся тождественными "сметливости", "познанию" и всем
другим именам, связанным с чем-то серьезным.
Но даже "невежество" и "беспутство"
представляются близкими этим именам, так как "невежество" – это как
бы шествие рядом с божеством, а "беспутство", судя по всему, это как
бы "сопутствие" вещам. Таким образом, имена, которые мы считаем
названиями худших вещей, могут оказаться названиями самых лучших. Я
думаю, если бы кто-нибудь как следует постарался, он смог бы найти
много других имен, которые бы показывали, что присвоитель имен
обозначал не идущие или несущиеся, но пребывающие в покое вещи.
Кратил. Однако, Сократ, ты видишь, что у
многих имен все-таки первое значение.
Сократ. Что же из того, Кратил? Подсчитаем
имена, словно камешки при голосовании, и в этом-то и будет состоять
правильность? С каким значением окажется больше имен, те имена и
будут истинными?
Кратил. Нет, конечно, так делать не
следует.
Сократ. Ни в коем случае, мой друг. Давай
оставим это и начнем оттуда, откуда мы уже начинали. Помнишь, ты
только что сказал, что учредитель имен непременно должен был знать
вещи, которым устанавливал имя. Ты все еще так же думаешь или нет?
Кратил. Все так же.
Сократ. Тот, кто первый устанавливал
имена, устанавливая их, говоришь ты, знал эти вещи?
Кратил. Знал.
Сократ. Но по каким именам он изучил или
исследовал вещи, если еще ни одно имя не было присвоено? Мы ведь
говорили раньше, что невозможно исследовать вещи иначе, как изучив
имена или исследовав их значение?
Кратил. В том, что ты говоришь, что-то
есть, Сократ.
Сократ. Тогда каким же образом, сказали бы
мы, они могли устанавливать со знанием дела имена или оказаться
законодателями, если еще не было присвоено ни одного имени, по
которому они могли бы узнать, что вещи нельзя постичь иначе как из
имен?
Кратил. Я думаю, Сократ, что справедливее
всего говорят об этом те, кто утверждает, что какая-то сила, высшая,
чем человеческая, установила вещам первые имена, так что они
непременно должны быть правильными.
Сократ. Ты думаешь, такой учредитель, будь
он гений или бог, мог бы сам себе противоречить? Или ты считаешь,
что до сих пор мы болтали вздор?
Кратил. Но противоположные имена исходили
уже не от них.
Сократ. Какие же именно, превосходнейший?
Те, что сводят дело к стоянию, или те, что к порыву? Ведь если
исходить из ранее сказанного, вопрос решает здесь не количество?
Кратил. Конечно, это было бы неправильно,
Сократ.
Сократ. Так что, если возмутятся имена и
одни скажут, что именно они – подобие истины, другие же – что они,
как мы сможем их рассудить, к чему мы прибегнем? Не к другим же
именам, отличным от этих, ведь этого делать нельзя? Ясно, что нужно
искать помимо имен то, что без их посредства выявило бы для нас,
какие из них истинны, то есть показывают истину вещей.
Кратил. Мне кажется, это так.
Сократ. Если это так, Кратил, то можно,
видимо, изучить вещи и без имен.
Кратил. Очевидно.
Сократ. Но с помощью чего же другого и как
предложил бы ты их изучать? Не так ли, как это было бы всего
справедливее: устанавливать родство между словами и изучать одно
через другое, а также через самое себя? Ведь что-то другое, от них
отличное, и означало бы что-то другое и отличное от них, но не их.
Кратил. Мне кажется, ты говоришь правду.
Сократ. Тогда, ради Зевса, слушай. Разве
нам не приходилось уже много раз соглашаться, что хорошо
установленные имена подобны тем вещам, которым они присвоены, и что
имена – это изображения вещей?
Кратил. Да.
Сократ. А если можно было бы с успехом
изучать вещи из имен, но можно было бы и из них самих – какое
изучение было бы лучше и достовернее? По изображению изучать саму
вещь – хорошо ли она изображена – и истину, которую являет
отображение, или из самой истины изучать и ее самое, и ее
отображение, подобающим ли образом оно сделано?
Кратил. Мне кажется, это надо изучать из
самой истины.
Сократ. Так вот, узнать, каким образом
следует изучать и исследовать вещи, это, вероятно, выше моих и твоих
сил. Но хорошо согласиться и в том, что не из имен нужно изучать и
исследовать вещи, но гораздо скорее из них самих.
Кратил. Очевидно, Сократ.
Сократ. Тогда давай рассмотрим еще вот
что, дабы с нас не обмануло множество имен, сводящихся к одному и
тому же: если, давая имена сущему, учредители имен имели в виду, что
все всегда шествует и течет, – а мне представляется, что именно это
они и подразумевали, – если так и случилось, все же это не так, и
сами они, словно попав в какой-то водоворот, мечутся там и увлекают
нас за собою. Смотри же, бесценный друг мой, что я часто вижу,
словно бы в грезах. Могли бы мы сказать, что есть что-то прекрасное
и доброе само по себе и что это относится к каждой существующей
вещи? Или нет?
Кратил. Мне кажется, могли бы, Сократ.
Сократ. Тогда давай это рассмотрим. Я не о
том говорю, что, если прекрасно какое-то лицо или что-либо другое в
этом роде, значит, все это течет – вовсе нет. Но можно ли нам
сказать, что и само прекрасное не остается постоянно таким, каково
оно есть?
Кратил. Безусловно, можно.
Сократ. Но можно ли тогда что-либо
правильно именовать, если оно всегда ускользает, и можно ли сначала
сказать, что оно представляет собою то-то, а затем, что оно уже
такое-то, или же в тот самый момент, когда бы мы это говорили, оно
необходимо становилось уже другим и ускользало и в сущности никогда
бы не был таким, [каким мы его называли]?
Кратил. Именно так.
Сократ. Но разве может быть чем-то то, что
никогда не задерживается в одном состоянии? Ведь если бы оно
когда-нибудь задержалось в этом состоянии, то тут же стало бы видно,
что оно нисколько не изменяется; с другой стороны, если дело обстоит
так, и оно остается самим собой, как может оно изменяться или
двигаться, не выходя за пределы своей идеи ?
Кратил. Никак не может.
Сократ. Ведь в первом случае оно не могло
бы быть никем познано. Ведь когда познающий уже вот-вот бы его
настигал, оно тотчас становилось бы иным и отличным от прежнего, и
нельзя было бы узнать, каково же оно или в каком состоянии
пребывает; а никакое познание, конечно, не познает того, о чем
известно, что оно не задерживается ни в каком состоянии.
Кратил. Да, это так.
Сократ. И видимо, нельзя говорить о
знании, Кратил, если все вещи меняются и ничто не остается на месте.
Ведь и само знание – если оно не выйдет за пределы того, что есть
знание, – всегда остается знанием и им будет; если же изменится
самая идея знания, то одновременно она перейдет в другую идею
знания, то есть [данного] знания уже не будет. Если же оно вечно
меняется, то оно вечно – незнание. Из этого рассуждения следует, что
не было бы ни познающего, ни того, что должно быть познанным. А если
существует вечно познающее, то есть и познаваемое, есть и
прекрасное, и доброе, и любая из сущих вещей, и мне кажется, что с
то, о чем мы сейчас говорили, совсем не похоже на поток или порыв.
Выяснить, так ли это или так, как говорят последователи Гераклита и
многие другие, боюсь, будет нелегко; и несвойственно разумному
человеку, обратившись к именам, ублажать свою душу и, доверившись им
и их присвоителям, утверждать, будто он что-то знает (между тем как
он презирает и себя, и вещи, в которых будто бы нет ничего
устойчивого, но все течет, как дырявая скудель, и беспомощно, как
люди, страдающие насморком), и думать, и располагать вещи так, как
если бы все они были влекомы течением и потоком. Поэтому-то, Кратил,
дело обстоит, может быть, так, а может быть, не так. Следовательно,
здесь надо все мужественно и хорошо исследовать и ничего не
принимать на веру: ведь ты молод и у тебя еще есть время. Если же,
исследовав это, ты что-то откроешь, поведай об этом и мне.
Кратил. Так я и сделаю. Все же знай,
Сократ, что и сегодня я не в первый раз об этом размышляю, и, когда
я рассматриваю и перебираю вещи, мне представляется, что они гораздо
скорее таковы, как говорит Гераклит.
Сократ. Тогда, мой друг, ты и меня научишь
в другой раз, когда возвратишься. Теперь же ступай, отправляйся в
деревню, как собирался. Вот и Гермоген последует туда за тобой.
Кратил. Так и будет, Сократ. Но и ты до
того времени попытайся это еще раз обдумать.