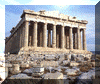Перевод А.В.Болдырева.
В кн.: Платон. Собр. соч. в 4-х томах. Том 1. М.: "Мысль", 1990
ГИППИЙ БОЛЬШИЙ
(окончание)
Сократ. "Ведь, пожалуй будешь тем, кто
утверждает, что для всех и всегда прекрасно прекрасного быть погребенным
своими детьми, не есть родителей предать погребению. Или прекрасное
Геракл, и все те, кого мы только что называли?"
Гиппий. Но ведь я не говорил, что это
прекрасно для богов!
Сократ. "И не для героев, по-видимому",
Гиппий. Не для тех, кто были детьми богов.
Сократ. "А для тех, которые ими не были?"
Гиппий. Для этих, конечно, прекрасно.
Сократ. "Итак, если тебе верить, оказывается,
что из героев для Тантала, Дардана, Зета все это ужасно, нечестиво,
безобразно, а для Пелопа и для остальных, рожденных так же, как он, это
прекрасно".
Гиппий. Мне так кажется.
Сократ. "Следовательно, – скажет он, – ты
признаешь то, что перед этим не считал правильным, а именно что иногда и
для некоторых предать погребению своих предков, а затем быть
погребенными своими с потомками – безобразно. Более того, видимо,
невозможно, чтобы это случалось со всеми и одновременно было прекрасным.
Выходит, со всем этим произошло то же, что и с прежним – с девушкой и с
горшком, и, что смешнее всего, для одних это оказывается прекрасным, для
других – нет. И сегодня еще, Сократ, – скажет он, – ты не в состоянии
ответить на вопрос, что такое прекрасное". Этими и другими словами будет
он справедливо меня бранить, получив от меня подобный ответ. Вот
приблизительно так он со мной большей частью и разговаривает, Гиппий. А
иной раз, как будто сжалившись над моей неопытностью и невежеством, сам
предлагает мне вопросы – например, чем именно мне кажется прекрасное,
или же выспрашивает меня о другом, о чем придется и о чем зайдет речь.
Гиппий. Как так, Сократ?
Сократ Я разъясню тебе. "Чудак ты, Сократ, –
говорит он, – перестань давать подобные ответы так, как ты это делаешь:
слишком уж они простоваты и их легко опровергнуть. Лучше рассмотри, не
кажется ли тебе, что прекрасное есть нечто, чего мы только что коснулись
в одном ответе, когда утверждали, будто золото прекрасно, когда оно к
чему-либо подходит, а когда не подходит, оно не прекрасно; так же
обстоит и со всем остальным, чему присуще это [свойство]. Рассмотри
подходящее само по себе и его природу: не окажется ли прекрасное
подходящим?" И вот я обычно соглашаюсь с этим: ведь мне нечего
возразить. А тебе не кажется ли именно подходящее прекрасным?
Гиппий. Конечно, Сократ.
Сократ. Рассмотрим же это, чтобы не
обмануться.
Гиппий. Да, это следует рассмотреть.
Сократ. Итак, взгляни: утверждаем ли мы, что
подходящее – это то, что своим появлением заставляет казаться прекрасной
любую вещь, которой оно присуще, или же то, что заставляет ее быть
прекрасной? Или это ни то ни другое?
Гиппий. Мне думается, то, что заставляет
казаться прекрасным, все равно как если человек, надев идущее ему платье
или обувь, кажется прекраснее, даже когда у него смешная наружность.
Сократ. Но если подходящее заставляет все
казаться прекраснее, чем оно есть на самом деле, тогда подходящее – это
какой-то обман относительно прекрасного, и это, пожалуй, не то, что мы
ищем, Гиппий? Ведь мы исследовали то, чем прекрасны все прекрасные
предметы, подобно тому как все великое велико своим превосходством;
благодаря этому превосходству все бывает великим, и если даже оно не
кажется таким, но таково на деле, оно неизбежно будет великим. Точно так
же мы говорим о том, что такое прекрасное, благодаря которому прекрасно
все, кажется ли оно таковым или нет. Пожалуй, это не подходящее; ведь
последнее, как ты сказал, заставляет предметы казаться прекраснее, чем
они есть на самом деле, и не позволяет видеть их такими, каковы они
есть. Нужно попробовать показать, что же делает предметы, как я только
что заметил, прекрасными, кажутся они таковыми или нет. Вот что мы
исследуем, коль хотим найти прекрасное.
Гиппий. Но, Сократ, подходящее своим
присутствием заставляет предметы и быть, и казаться прекрасными.
Сократ. Итак, невозможно, чтобы действительно
прекрасное не казалось прекрасным, по крайней мере если присутствует то,
что заставляет его таким казаться.
Гиппий. Невозможно.
Сократ. Признаем ли мы, Гиппий, что все
действительно прекрасные установления и занятия и считаются прекрасными
и всегда всем таковыми кажутся? Или же совсем наоборот, их не узнают,
что и вызывает сильные раздоры и борьбу как в частной жизни между
отдельными людьми, так и между государствами в жизни общественной?
Гиппий. Cкорее именно так, Сократ, их не
узнают.
Сократ. Но этого не было бы, если бы им
присуще было казаться прекрасными. А это было бы лишь в том случае, если
бы подходящее не только было прекрасным, но и заставляло предметы
казаться такими. Таким образом, подходящее, если только оно есть то, что
заставляет быть прекрасным, будет, пожалуй, тем прекрасным, которое мы
ищем, но не тем, что заставляет казаться прекрасным. Если же, с другой
стороны, подходящее есть то, что заставляет казаться прекрасным, оно,
пожалуй, не будет тем прекрасным, которое мы ищем. Ведь оно заставляет
быть прекрасным, а одному и тому же, пожалуй, не дано заставлять
одновременно и казаться и быть прекрасным или чем бы то ни было иным.
Итак, давай выбирать, представляется ли нам подходящее тем, что
заставляет казаться прекрасным, или тем, что заставляет им быть.
Гиппий. По-моему, тем, что заставляет
казаться, Сократ.
Сократ. Эге, Гиппий! Значит, познание того,
что такое прекрасное, ускользнуло от нас, раз подходящее оказалось
чем-то другим, а не прекрасным.
Гиппий. Да, Сократ, клянусь Зевсом, и,
по-моему, ускользнуло как-то нелепо.
Сократ. Во всяком случае, друг мой, давай его
больше не отпускать. У меня еще теплится надежда, что мы выясним, что же
такое прекрасное.
Гиппий. Конечно, Сократ; да и нетрудно найти
это. Я по крайней мере хорошо знаю, что если бы я недолго поразмыслил
наедине с самим собой, то сказал бы тебе это точнее точного.
Сократ. Не говори так самоуверенно, Гиппий! Ты
видишь, сколько хлопот нам уже доставило прекрасное; как бы оно,
разгневавшись, не убежало от нас еще дальше. Впрочем, я говорю пустяки;
ты-то, я думаю, легко найдешь его, когда окажешься один. Но ради богов,
разыщи его при мне или, если хочешь, давай его искать вместе, как делали
только что; и, если мы найдем его, это будет отлично, если же нет, я,
думается мне, покорюсь своей судьбе, ты же легко отыщешь его, оставшись
один. А если мы найдем его теперь, не беспокойся, я не буду надоедать
тебе расспросами о том, что ты разыщешь самостоятельно. Сейчас же
посмотри снова, чем тебе кажется прекрасное. Я говорю, что оно... только
ты Наблюдай за мной повнимательнее, как бы мне не сказать чего-нибудь
несуразного... пусть у нас будет прекрасным то, что пригодно. Сказал же
я это вот почему: прекрасны, говорим мы, не те глаза, что кажутся
неспособными видеть, но те, что способны видеть и пригодны для зрения.
Не так ли?
Гиппий. Да.
Сократ. Не правда ли, и все тело в целом мы в
таком же смысле называем прекрасным, одно – для бега, другое – для
борьбы; и все живые существа мы называем прекрасными: и коня, и петуха,
и перепела; так же как и всякую утварь и средства передвижения:
сухопутные и морские, торговые суда и триеры; и все инструменты, как
музыкальные, так и те, что служат в других искусствах, а если угодно, и
занятия и обычаи – почти все это мы называем прекрасным таким же
образом. В каждом из этих предметов мы отмечаем, как он явился на свет,
как сделан, как составлен, и называем прекрасным то, что пригодно,
смотря по тому, как оно пригодно и в каком отношении, для чего и когда;
то же, что во всех этих отношениях непригодно, мы называем безобразным.
Не думаешь ли и ты так же, Гиппий?
Гиппий. Да, думаю.
Сократ. Так, значит, мы правильно теперь
говорим, что пригодное скорее можно назвать прекрасным, чем все иное?
Гиппий. Конечно, правильно, Сократ.
Сократ. Не правда ли, то, что может выполнить
какую-нибудь работу, для нее и пригодно, то же, что не может,
непригодно.
Гиппий. Конечно.
Сократ. Итак, мощь есть нечто прекрасное, а
немощь – безобразное?
Гиппий. Вот именно. Все, Сократ, подтверждает,
что это так, а в особенности государственные дела: ведь в
государственных делах и в своем собственном городе быть мощным
прекраснее всего, а бессильным – всего безобразнее.
Сократ. Хорошо сказано! Но ради богов, Гиппий,
разве и мудрость не поэтому прекраснее всего, а невежество всего
безобразнее?
Гиппий. А ты как думаешь, Сократ?
Сократ. Погоди, мой милый; меня страх берет –
что это мы опять говорим?
Гиппий. Чего же ты боишься, Сократ? Теперь-то
уж твое рассуждение превосходно.
Сократ. Хотел бы я, чтобы это было так; но
рассмотри со мной вместе вот что: разве кто может делать то, чего он не
умеет, да и вообще не способен выполнить?
Гиппий. Никоим образом; как же он сделал бы
то, на что не способен?
Сократ. Значит, те, кто ошибается и невольно
совершает дурные дела, никогда не стали бы делать этого, если бы не были
на это способны?
Гиппий. Это ясно.
Сократ. Но ведь сильные могут делать свое дело
с благодаря силе? Ведь не благодаря же бессилию?
Гиппий. Нет, конечно.
Сократ. Ну а как ты скажешь: все делающие
что-либо могут делать то, что они делают?
Гиппий. Да.
Сократ. Но все люди, начиная с детства, делают
гораздо больше дурного, чем хорошего, и невольно ошибаются.
Гиппий. Это так.
Сократ. И что же? Такую силу и такую пользу –
то, что пригодно для свершения дурного, – мы и их назовем прекрасными
или же ни в коем случае?
Гиппий По-моему, ни в коем случае, Сократ.
Сократ. Следовательно, Гиппий, прекрасное,
видимо, не то, что обладает силой и нам пригодно.
Гиппий. Но, Сократ, я говорю о тех случаях,
когда что-то способно к добру и пригодно для этой цели.
Сократ Значит, наше предположение, будто то,
что обладает мощью, и то, что пригодно, тем самым прекрасно, отпадает. А
душа наша, Гиппий, хотела сказать вот что: прекрасное есть и пригодное,
и способное сделать нечто для блага.
Гиппий. Кажется, так.
Сократ. Но ведь это и есть полезное. Не правда
ли?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Таким образом, и прекрасные тела, и
прекрасные установления, и мудрость, и все, о чем мы только что
говорили, прекрасно потому, что оно полезно.
Гиппий. Это очевидно.
Сократ. Итак, нам кажется, что прекрасное есть
полезное, Гиппий.
Гиппий. Безусловно, Сократ.
Сократ. Но ведь полезное это то, что творит
благо.
Гиппий. Вот именно.
Сократ. А то, что творит, есть не что иное,
как причина, не так ли?
Гиппий. Так.
Сократ. Значит, прекрасное есть причина блага.
Гиппий. Вот именно.
Сократ. Но, Гиппий, ведь причина, с одной
стороны, и причина причины, с другой – это разные вещи; причина не могла
бы быть причиной причины. Рассмотри это так: не оказалась ли причина
чем-то созидающим?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Не правда ли, созидающее творит то,
что возникает, а не то, что созидает?
Гиппий. Это так.
Сократ. Значит, возникающее – это одно, а
созидающее – другое?
Гиппий. Да.
Сократ. Следовательно, причина не есть причина
причины, но лишь причина того, что от нее возникает?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Итак, если прекрасное есть причина
блага, то благо возникает благодаря прекрасному. И мы, думается, усердно
стремимся к разумному и ко всему остальному прекрасному потому, что
производимое им действие и его детище, благо, достойны такого
стремления; из того, что мы нашли, видно, что прекрасное выступает как
бы в образе отца блага.
Гиппий. Конечно, так. Ты прекрасно говоришь,
Сократ.
Сократ. А не прекрасно ли сказано мною и то,
что ни отец не есть сын, ни сын не есть отец?
Гиппий. Разумеется, прекрасно.
Сократ. И как причина не есть то, что
возникает, так и возникающее не есть причина.
Гиппий Ты прав.
Сократ. Клянусь Зевсом, милейший, но ведь
тогда ни прекрасное не есть благо, ни благо не есть прекрасное. Или это
тебе кажется возможным после сказанного раньше?
Гиппий. Нет, клянусь Зевсом, мне так не
кажется.
Сократ. Но удовлетворит ли нас, если мы
захотим сказать, что прекрасное не есть благо и благо не есть
прекрасное?
Гиппий. Нет, клянусь Зевсом, это меня вовсе не
удовлетворяет.
Сократ. Клянусь Зевсом, Гиппий, и меня это
наименее удовлетворяет из сказанного.
Гиппий. Да, это так.
Сократ. Значит, неверно нам представлялось,
будто прекраснее всего наше положение, что полезное, пригодное и
способное к созиданию блага и есть прекрасное. Нет, такое допущение,
если только это возможно, еще смешнее прежних, когда мы думали, что
прекрасное – это девушка и все прочее, что мы перечислили раньше.
Гиппий. Кажется, что так.
Сократ. Уж и не знаю, куда мне деваться,
Гиппий, и не нахожу выхода; а у тебя есть что сказать?
Гиппий. Нет, по крайней мере сейчас; но, как я
недавно сказал, если я это обдумаю, то уверен, что найду.
Сократ. Кажется, жажда знать не позволит мне
дождаться, пока ты соберешься; и вот, мне думается, что теперь-то уж я
нашел выход. Смотри-ка: если бы мы назвали прекрасным то, что заставляет
нас радоваться, – допустим, не все удовольствия, а то, что радует нас
через слух и зрение, – как бы мы тогда стали спорить? Дело в том,
Гиппий, что и красивые люди, и пестрые украшения, и картины, и изваяния
радуют наш взор, если они прекрасны. И прекрасные звуки, и все мусичекие
искусства, речи, рассказы производят то же самое действие, так что, если
мы ответим тому дерзкому человеку: "Почтеннейший, прекрасное – это
приятное для слуха и зрения", – не думаешь ли ты, что так мы обуздаем
его дерзость?
Гиппий. И правда, кажется, теперь хорошо
сказано, что такое прекрасное, Сократ.
Сократ. А скажем ли мы о прекрасных занятиях и
законах, Гиппий, что они прекрасны потому, что приятны для слуха и
зрения, или же это вещи иного чуда?
Гиппий. Это, Сократ, может быть, и ускользнет
от того человека.
Сократ. Клянусь собакой, Гиппий, это не
ускользнет от того, кого я больше всего постыдился бы, если бы стал
болтать вздор и делать вид, будто говорю дело, когда на самом деле
болтаю пустяки.
Гиппий. Кто же это такой?
Сократ. Сократ, сын Софрониска, который,
пожалуй, не позволит мне с легкостью говорить об этих еще не
исследованных предметах или делать вид, что я знаю то, чего я не знаю.
Гиппий. Но мне и самому после твоих слов
кажется, что с законами обстоит как-то по-иному.
Сократ. Не торопись, Гиппий: выходит, мы
попали в вопросе о прекрасном в такой же тупик, как и раньше, а между
тем думаем, что нашли хороший выход.
Гиппий. В каком смысле ты это говоришь,
Сократ?
Сократ. Я скажу тебе, как мне это
представляется, если, конечно, я говорю дело. Ведь, пожалуй, все, что
относится к законам и занятиям, не лежит за пределами тех ощущений,
которые мы получаем благодаря слуху и зрению. Так давай сохраним это
положение – "приятное благодаря этим чувствам есть прекрасное" – и не
будем выдвигать вперед вопрос о законах. Если бы спросил нас тот, о ком
я говорю, или кто другой: "Почему же, Гиппий и Сократ, вы выделили из
приятного приятное, получаемое тем путем, который вы называете
прекрасным, между тем как приятное, связанное со всеми прочими
ощущениями – от пищи, питья, любовных утех и так далее, – вы не
называете прекрасным? Или это все неприятно, и вы утверждаете, что в
этом вообще нет удовольствия? Ни в чем ином, кроме зрения и слуха?" Что
мы на это скажем, Гиппий?
Гиппий. Разумеется, мы скажем, Сократ, что и
во всем другом есть величайшее удовольствие.
Сократ. "Почему же, – скажет он, – раз все это
удовольствия нисколько не меньшие, чем те, вы отнимаете у них это имя и
лишаете свойства быть прекрасными?" "Потому, – ответим мы, – что
решительно всякий осмеет нас, если мы станем утверждать, что есть – не
приятно, а прекрасно и обонять приятное – не приятно, а прекрасно; что
же касается любовных утех, то все стали бы нам возражать, что хотя они и
очень приятны, но, если кто им предается, делать это надо так, чтобы
никто не видел, ведь видеть это очень стыдно". На эти наши слова,
Гиппий, он, пожалуй, скажет: "Понимаю и я, что вы давно уже стыдитесь
назвать эти удовольствия прекрасными, потому что это неугодно людям; но
я-то ведь не о том спрашивал, что кажется прекрасным большинству, а о
том, что прекрасно на самом деле". Тогда, я думаю, мы ответим в
соответствии с нашим предположением: "Мы говорим, что именно эта часть
приятного – приятное для зрения и слуха – прекрасна". Годятся тебе эти
соображения, Гиппий, или надо привести еще что-нибудь?
Гиппий. На то, что было сказано, Сократ, надо
ответить именно так.
Сократ. "Прекрасно говорите, – возразит он. Не
правда ли, если приятное для зрения и слуха есть с прекрасное, очевидно,
иное приятное не будет прекрасным?" Согласимся ли мы с этим?
Гиппий. Да.
Сократ. "Но разве, – скажет он, – приятное для
зрения есть приятное и для зрения и для слуха или приятное для слуха –
то же самое, что и приятное для зрения?" "Никоим образом, – скажем мы, –
то, что приятно для того или другого, не будет таковым для обоих вместе
(ведь об этом ты, по-видимому, говоришь), но мы сказали, что и каждое из
них есть прекрасное само по себе, и оба они вместе". Не так ли мы
ответим?
Гиппий. Конечно.
Сократ. "А разве, – спросит он, – какое бы то
ни было приятное отличается от любого другого приятного тем, что оно
есть приятное? Я спрашиваю не о том, больше или меньше какое-нибудь
удовольствие, сильнее оно или слабее, но спрашиваю, отличается ли
какое-нибудь удовольствие от других именно тем, что одно есть
удовольствие, а другое – нет". Нам кажется, это не так. Верно я отвечаю?
Гиппий. Видимо, верно.
Сократ. "Значит, – скажет он, – вы отобрали
эти удовольствия из всех остальных по какой-то иной причине, а не в силу
того, что они удовольствия. Вы усмотрели и в том и в другом нечто
отличное от других удовольствий и, приняв это во внимание, утверждаете,
что они прекрасны. Ведь не потому прекрасно удовольствие, получаемое
через зрение, что оно получается через зрение: если бы это служило
причиной, по которой такое удовольствие прекрасно, никогда не было бы
прекрасным другое удовольствие, получаемое через слух, ибо оно не есть
удовольствие зрительное". Скажем ли мы, что он прав?
Гиппий. Скажем.
Сократ. "С другой стороны, и удовольствие,
получаемое через слух, бывает прекрасным не потому, что оно слуховое. В
таком случае зрительному удовольствию никогда бы не быть прекрасным,
ведь оно не есть удовольствие слуха". Скажем ли мы, Гиппий, что человек,
утверждающий такие вещи, говорит правду?
Гиппий. Да, он говорит правду.
Сократ. "Но разумеется, оба удовольствия
прекрасны, как вы утверждаете". Ведь мы это утверждаем?
Гиппий. Утверждаем.
Сократ. "Значит, они имеют нечто
тождественное, что заставляет их быть прекрасными, то общее, что присуще
им обоим вместе и каждому из них в отдельности; ведь иначе они не были
бы прекрасны, и оба вместе, и каждое из них". Отвечай мне так, как ты
ответил бы тому человеку.
Гиппий. Я отвечаю: по-моему, все обстоит так,
как ты говоришь.
Сократ. Но если оба этих удовольствия обладают
указанным свойством, каждое же из них в отдельности им не обладает, то
они, пожалуй, не могут быть прекрасными вследствие этого свойства.
Гиппий. Да как же это может быть, Сократ,
чтобы ни одна из двух вещей не имела какого-то свойства, а затем чтобы
это самое свойство, которого ни одна из них не имеет, оказалось в обеих?
:
Сократ. Тебе кажется, что этого не может быть?
Гиппий. Я, должно быть, не очень искушен в
природе таких вещей, а также в такого вот рода рассуждениях.
Сократ. Успокойся, Гиппий! Мне, наверное,
только кажется, будто я вижу, что дело может происходить так, как тебе
это представляется невозможным, на самом же деле я ничего не вижу.
Гиппий. Не "наверное", Сократ, а совершенно
очевидно, что ты смотришь в сторону.
Сократ. А ведь много такого возникает перед
моим мысленным взором; однако я этому не доверяю, потому что тебе,
человеку, из всех современников заработавшему больше всего денег за свою
мудрость, так не видится, а только мне, который никогда ничего не
заработал. И мне приходит на ум, друг мой, не шутишь ли ты со мною и не
обманываешь ли меня нарочно, до того ясным многое представляется.
Гиппий. Никто, Сократ, не узнает лучше тебя,
шучу ли я или нет, если ты попробуешь рассказать о том, что пред тобой
возникает. Ведь тогда станет очевидным, что ты говорить вздор. Ты
никогда не найдешь такого общего для нас с тобой свойства, которого не
имел бы я или ты.
Сократ. Как ты сказал, Гиппий? Может быть, ты
и дело говоришь, только я не понимаю; но выслушай более точно, что я
хочу сказать: мне представляется, что то, что не свойственно мне и чем
не можем быть ни я, ни ты, то может быть свойственно обоим нам вместе; с
другой стороны, тем, что свойственно нам обоим, каждый из нас может и не
быть.
Гиппий. Похоже, Сократ, что ты рассказываешь
чудеса еще большие, чем ты рассказывал немного раньше. Смотри же: если
мы оба справедливы, разве не справедлив и каждый из нас в отдельности?
Или, если каждый из нас несправедлив, не таковы ли мы и оба вместе? И
если мы оба вместе здоровы, не здоров ли и каждый из нас? Или, если
каждый из нас болен, кто ранен, получил удар или испытывает какое бы то
ни было состояние, разве не испытываем того же самого мы оба вместе?
Далее, если бы оказалось, что мы оба вместе золотые, серебряные,
сделанные из слоновой кости, или же, если угодно, что мы оба благородны,
мудры, пользуемся почетом, что мы старцы, юноши или все, что тебе угодно
из того, чем могут быть люди, – разве не было бы в высшей степени
неизбежно, чтобы я каждый из нас в отдельности был таким же?
Сократ. Конечно.
Гиппий. Дело в том, Сократ, что ты не
рассматриваешь вещи в целом; так же поступают и те, с кем ты имеешь
обыкновение рассуждать; вы прекрасное и каждую сущую вещь исследуете,
расчленяя их в своих рассуждениях. Потому-то и скрыты от вас столь
великие и цельные по своей природе телесные сущности. И теперь это
оказалось скрытым от тебя до такой степени, что ты считаешь, будто
существует нечто, состояние или сущность, что имеет отношение к двум
вещам, вместе взятым, но не к каждой из них в отдельности, или же,
наоборот, к каждой из них в отдельности, но не к обеим, вместе взятым.
Вот как вы неразумны, неосмотрительны, просты, безрассудны!
Сократ. Таково уж наше положение, Гиппий, – не
как хочется, а как можется, говорит в таких случаях пословица. Зато ты
помогаешь нам всегда своими указаниями. Вот и теперь: обнаружить ли мне
перед тобой еще больше, как просты мы были до получения твоих указаний,
рассказав тебе, как мы обо всем этом рассуждали, или лучше об этом не
говорить?
Гиппий. Мне говорить, Сократ, – человеку,
который все это знает? Ведь я знаю всех любителей рассуждений, что это
за люди. Впрочем, если тебе это приятно, говори.
Сократ. Разумеется, приятно. Дело в следующем,
дорогой мой: прежде чем ты сказал все это, мы были настолько бестолковы,
что представляли себе, будто и я, и ты, каждый из нас – это один
человек, а оба вместе мы, конечно, не можем быть тем, что каждый из нас
есть в отдельности, ведь мы – это не один, а двое; вот до чего мы были
просты. Теперь же ты научил нас, что, если мы вместе составляем двойку,
необходимо, чтобы и каждый из нас был двойкой, если же каждый из нас
один, необходимо, чтобы и оба вместе были одним: в противном случае, по
мнению Гиппия, не может быть сохранено целостное основание бытия. И чем
бывают оба вместе, тем должен быть и каждый из них, и оба вместе – тем,
чем бывает каждый. Вот я сижу здесь, убежденный тобою. Но только раньше,
Гиппий, напомни мне: я и ты – будем ли мы одним, или же и ты – два, и я
– два?
Гиппий. Что такое ты говоришь, Сократ?
Сократ. То именно, что я говорю; я боюсь
высказаться ясно перед тобой, потому что ты сердишься на меня, когда
тебе кажется, будто ты сказал нечто значительное. Все-таки скажи мне
еще: не есть ли каждый из нас один и не свойственно ли ему именно то,
что он есть один?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Итак, если каждый из нас один, то,
пожалуй, он будет также нечетным; или ты не считаешь единицу нечетным
числом?
Гиппий. Считаю.
Сократ. Значит, и оба вместе мы нечет, хотя
нас и двое?
Гиппий. Не может этого быть, Сократ.
Сократ. Тогда мы оба вместе чет. Не так ли?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Но ведь из-за того, что мы оба вместе
– чет, не будет же четом и каждый из нас?
Гиппий. Нет, конечно.
Сократ. Значит, совершенно нет необходимости,
как ты только что говорил, чтобы каждый в отдельности был тем же, что
оба вместе, и оба вместе – тем же, что каждый в отдельности?
Гиппий. Для подобных вещей – нет, а для таких,
о которых я говорил прежде, – да.
Сократ. Довольно, Гиппий! Достаточно и того,
если одно оказывается одним, а другое – другим. Ведь и я говорил – если
ты помнишь, откуда пошел у нас этот разговор, – что удовольствия,
получаемые через зрение и слух, прекрасны не тем, что оказывается
свойственным каждому из них, а обоим – нет или обоим свойственно, а
каждому порознь – нет, но тем, что свойственно обоим вместе и каждому
порознь, так как ты признал эти удовольствия прекрасными – и оба вместе,
и каждое в отдельности. Поэтому-то я и думал, что если только оба они
прекрасны, то они должны быть прекрасны благодаря причастной обоим им
сущности, а не той, которая отсутствует в одном из двух случаев; и
теперь еще я так думаю. Но повтори как бы с самого начала: если и
зрительное, и слуховое удовольствия прекрасны и оба вместе, и каждое в
отдельности, не будет ли то, что делает их прекрасными, причастно также
им обоим вместе и каждому из них в отдельности?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Потому ли они прекрасны, что и каждое
из них, и оба они вместе – удовольствие? Или же по этой причине и все
остальные удовольствия должны были бы быть прекрасными ничуть не меньше?
Ведь, если ты помнишь, выяснилось, что они точно так же называются
удовольствиями.
Гиппий. Помню.
Сократ. С другой стороны, мы говорили, что эти
удовольствия мы получаем через зрение и слух и оттого они прекрасны.
Гиппий. Это было сказано.
Сократ. Смотри же, правду ли я говорю?
Говорилось ведь, насколько я помню, что прекрасно именно это приятное,
не всякое приятное, но приятное благодаря зрению и слуху.
Гиппий. Да.
Сократ. Не так ли обстоит дело, что это
свойство присуще обоим [удовольствиям] вместе, а каждому из них в
отдельности не присуще? Ведь, как уже говорилось раньше, каждое из них
порознь не бывает [приятным] благодаря обоим [чувствам] вместе; оба они
вместе [приятны] благодаря обоим [чувствам], а каждое в отдельности –
нет. Так ведь?
Гиппий. Так.
Сократ. Значит, каждое из этих двух
удовольствий прекрасно не тем, что не присуще каждому из них порознь
(ведь то и другое каждому из них не присуще); таким образом, в
соответствии с нашим предположением можно назвать прекрасными оба этих
удовольствия вместе, но нельзя назвать так каждое из них в отдельности.
Разве не обязательно сказать именно так?
Гиппий. Видимо, да.
Сократ. Станем ли мы утверждать, что оба
вместе они прекрасны, а каждое порознь – нет?
Гиппий. Что ж нам мешает?
Сократ. Мешает, мой друг, по-моему, следующее:
у нас было, с одной стороны, нечто, присущее каждому предмету таким
образом, что коль скоро оно присуще обоим вместе, то оно присуще и
каждому порознь, и коль скоро каждому порознь, то оно присуще и обоим
вместе, – все то, что ты перечислил. Не так ли?
Гиппий. Да.
Сократ. Ну а то, что я перечислил, нет; а в
это входило и "каждое в отдельности", и "оба вместе". Так ли это?
Гиппий. Так.
Сократ. К чему же, Гиппий, относится,
по-твоему, прекрасное? К тому ли, о чем ты говоришь: коль скоро силен я
и ты тоже, то сильны и мы оба, и коль скоро я справедлив и ты тоже, то
справедливы мы оба вместе, а если мы оба вместе, то и каждый из нас в
отдельности? Точно так же коль скоро я прекрасен и ты тоже, то прекрасны
также мы оба, а если мы оба прекрасны, то прекрасен и каждый из нас
порознь. И что же мешает, чтобы из двух величин, составляющих вместе
четное число, каждая в отдельности была бы то нечетной, то четной или
опять-таки чтобы две величины, каждая из которых неопределенна, взятые
вместе, давали бы то определенную, то неопределенную величину и так
далее во множестве других случаев, которые, как я сказал, возникают
передо мною? К какого же рода вещам ты причисляешь прекрасное? Или ты об
этом того же мнения, что и я? Ведь мне кажется совершенно бессмысленным,
чтобы мы оба вместе были прекрасны, а каждый из нас в отдельности – нет
или чтобы каждый из нас в отдельности был прекрасным, а мы оба вместе –
нет и так далее. Решаешь ли ты так же, как я, или иначе?
Гиппий. Точно так же, Сократ.
Сократ. И хорошо поступаешь, Гиппий, чтобы нам
наконец избавиться от дальнейших исследований. Ведь если прекрасное
принадлежит к этому роду, то приятное благодаря зрению и слуху уже не
может быть прекрасным. Дело в том, что зрение и слух заставляют быть
прекрасным то и другое, но не каждое в отдельности. А ведь это оказалось
невозможным, Гиппий, как мы с тобой уже согласились.
Гиппий. Правда, согласились.
Сократ. Итак, невозможно, чтобы приятное
благодаря зрению и слуху было прекрасным, раз оно, становясь прекрасным,
создает нечто невозможное.
Гиппий. Это так.
Сократ. "Начинайте все сызнова, – скажет тот
человек, – так как вы в этом ошиблись. Чем же, по вашему мнению, будет
прекрасное, свойственное обоим этим удовольствиям, раз вы почтили их
перед всеми остальными и назвали прекрасными?" Мне кажется, Гиппий,
необходимо сказать, что это самые безобидные и лучшие из всех
удовольствий, и оба они вместе, и каждое из них порознь. Или ты можешь
назвать что-нибудь другое, чем они отличаются от остальных?
Гиппий. Никоим образом, ведь они действительно
самые лучшие.
Сократ. "Итак, – скажет он, – вот что такое,
по вашим словам, прекрасное: это – полезное удовольствие". Кажется, так,
скажу я; ну а ты?
Гиппий. И я тоже.
Сократ. "Но не полезно ли то, что создает
благо? – скажет он. А создающее и создания, как только что выяснилось, –
это вещи разные. И не возвращается ли ваше рассуждение к сказанному
прежде? Ведь ни благо не может быть прекрасным, ни прекрасное – благом,
если только каждое из них есть нечто иное". Несомненно так, скажем мы,
Гиппий, если только в нас есть здравый смысл. Ведь недопустимо не
соглашаться с тем, кто говорит правильно.
Гиппий. Но что же это такое, по-твоему,
Сократ, все вместе взятое? Какая-то шелуха и обрывки речей, как я сейчас
только говорил, разорванные на мелкие части. Прекрасно и ценно нечто
иное: уметь выступить с хорошей, красивой речью в суде, совете или перед
иными властями, к которым ты ее держишь; убедить слушателей и удалиться
с наградой, не ничтожнейшей, но величайшей – спасти самого себя, свои
деньги, друзей. Вот чего следует держаться, распростившись со всеми
этими словесными безделками, чтобы не показаться слишком уж глупыми,
если станем заниматься, как сейчас, пустословием и болтовней.
Сократ. Милый Гиппий, ты счастлив, потому что
знаешь, чем следует заниматься человеку, и занимаешься определения этим
как должно – ты сам говоришь. Мною же как будто владеет какая-то роковая
сила, так как я вечно блуждаю и не нахожу выхода; а стоит мне обнаружить
свое безвыходное положение перед вами, мудрыми людьми, я слышу от вас
оскорбления всякий раз, как его обнаружу. Вы всегда говорите то же, что
говоришь теперь ты, – будто я хлопочу о глупых, мелких и ничего не
стоящих вещах. Когда же, переубежденный вами, я говорю то же, что и вы,
– что всего лучше уметь, выступив в суде или в ином собрании с хорошей,
красивой речью, довести ее до конца, – я выслушиваю много дурного от
здешних людей, а особенно от этого человека, который постоянно обличает.
Дело в том, что он чрезвычайно близок мне по рождению и живет в одном
доме со мной. И вот, как только я прихожу к себе домой и он слышит, как
я начинаю рассуждать о таких вещах, он спрашивает, не стыдно ли мне
отваживаться на рассуждение о прекрасных занятиях, когда меня ясно
изобличили, что я не знаю о прекрасном даже того, что оно собой
представляет. "Как же ты будешь знать, – говорит он, – с прекрасной
речью выступает кто-нибудь или нет, и так же в любом другом деле, раз ты
не знаешь самого прекрасного? И если ты таков, неужели ты думаешь, что
тебе лучше жить, чем быть мертвым?" И вот, говорю я, мне приходится
выслушивать брань и колкости и от вас, и от того человека. Но быть
может, и нужно терпеть. А может быть, как ни странно, я получу от этого
пользу. Итак, мне кажется, Гиппий, что я получил пользу от твоей беседы
с ним: ведь, кажется мне, я узнал, что значит пословица "прекрасное –
трудно".