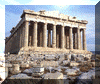Перевод С.П.Маркиша.
В кн.: Платон. С. с. в 4-х т. Т2. М.: "Мысль", 1993
ФЕДОН
(окончание)
Мало того, скажут мне, допустим, мы сделаем
стороннику этих доводов еще большие уступки, чем сделал ты, и
согласимся, что душа существует не только до нашего рождения, но,
что вполне возможно, некоторые души существуют и после того, как мы
умрем, и будут существовать, и много раз родятся, и снова умрут:
ведь душа по природе своей настолько сильна, что способна вынести
много рождений. Допустим, со всем этим мы согласимся, но не
признаем, что душа не несет никакого ущерба в частых своих рождениях
и не погибает однажды совершенно в какую-то из своих смертей, – а
никто не похвастается, будто знает хоть нибудь об этой последней
смерти и о разрушении тела, несущем гибель душе, ибо такое ощущение
никому из нас не доступно. Раз это так, не следует нам выказывать
отвагу перед смертью; она просто безрассудна, такая отвага, – ведь
доказать, что душа совершенно бессмертна и неуничтожима, мы не
можем. А раз не можем, умирающий непременно будет бояться за свою
душу, как бы, отделяясь от тела на этот раз, она не погибла
окончательно.
Выслушав Симмия и Кебета, мы все помрачнели.
Потом мы признавались друг другу, что прежние доводы полностью нас
убедили, а тут мы снова испытывали замешательство и были полны
недоверия не только к сказанному прежде, но и к тому, что нам еще
предстояло услышать. Может быть, это мы никуда не годны и не
способны ни о чем судить? Или же сам вопрос не допускает ясного
ответа?
Эхекрат. Клянусь богами, Федон, я вас
отлично понимаю. Послушал я тебя, и вот что примерно хочется мне
сказать самому себе: "Какому же доказательству мы теперь поверим,
если Сократ говорил так убедительно, и, однако же, все его
рассуждения поколеблены! До сих пор меня всегда особенно привлекал
взгляд на душу как на своего рода гармонию. Когда об этом зашла
речь, мне словно напомнили, что я давно держусь такого мнения и сам,
и теперь снова, как бы с самого начала, мне до крайности нужно
какое-нибудь иное доказательство, которое уверит меня, что душа
умирает вместе с телом. Продолжай, ради Зевса! Как Сократ вернулся к
своему доказательству? И был ли он заметно удручен – так же как и вы
– или же, напротив, спокойно помог вашему исследованию? И вполне ли
успешной была его помощь или не вполне? Расскажи нам обо всем как
можно точнее!
Федон. Знаешь, Эхекрат, я часто восхищался
Сократом, но никогда не испытывал такого восхищения, как в тот раз.
Он нашелся, что ответить, но в этом нет еще, пожалуй, ничего
странного. Если я был восхищен сверх всякой меры, так это тем,
во-первых, с какой охотой, благожелательностью и даже удовольствием
он встретил возражения своих молодых собеседников, далее, тем, как
чутко подметил он наше уныние, вызванное их доводами, и, наконец,
как прекрасно он нас исцелил. Мы были точно воины, спасающиеся
бегством после поражения, а он ободрил нас и повернул назад, чтобы
вместе с ним и под его руководительством внимательно исследовать все
сначала.
Эхекрат. Как же именно?
Федон. Сейчас объясню. Случилось так, что
я сидел справа от Сократа, подле самого ложа – на скамеечке – и
потому гораздо ниже его. И вот, проведя рукой по моей голове и
пригладив волосы на шее – он часто играл моими волосами, – Сократ
промолвил:
– Завтра, Федон, ты, верно, острижешь эти
прекрасные кудри?
– Боюсь, что так, Сократ, – отвечал я.
– Не станешь ты этого делать, если послушаешься
меня.
– Отчего же? – спросил я.
– Да оттого, что еще сегодня и я остригусь вместе
с тобою, если наше доказательство скончается и мы не сумеем его
оживить. Будь я на твоем месте и ускользни доказательство у меня из
рук, я бы дал клятву, по примеру аргосцев, не отращивать волосы до
тех пор, пока не одержу победы в новом бою против доводов Симмия и
Кебета.
– Но ведь, как говорится, против двоих даже
Гераклу не выстоять, – возразил я.
– Тогда кликни на помощь меня – я буду твоим
Иолаем, пока день еще не погас.
– Конечно, кликну, только давай наоборот: я буду
Иолаем, а ты Гераклом.
– Это все равно, – сказал Сократ. – Но прежде
всего давай остережемся одной опасности.
– Какой опасности? – спросил я.
– Чтобы нам не сделаться ненавистниками всякого
слова, как иные становятся человеконенавистниками, ибо нет большей
беды, чем ненависть к слову. Рождается она таким же точно образом,
как человеконенавистничество. А им мы проникаемся, если сперва
горячо и без всякого разбора доверяем кому-нибудь и считаем его
человеком совершенно честным, здравым и надежным, но в скором
времени обнаруживаем, что он неверный, ненадежный и еще того хуже.
Кто испытает это неоднократно, и в особенности по вине тех, кого
считал самыми близкими друзьями, тот в конце концов от частых обид
ненавидит уже всех подряд и ни в ком не видит ничего здравого и
честного. Тебе, верно, случалось замечать, как это бывает.
– Конечно, случалось, – сказал я.
– Но разве это не срам? – продолжал Сократ. –
Разве не ясно, что мы приступаем к людям, не владея искусством их
распознавать? Ведь кто владеет этим искусством по-настоящему, тот
рассудит, что и очень хороших и очень плохих людей немного, а
посредственных – без числа.
– Как это? – спросил я.
– Так же точно, как очень маленьких и очень
больших. Что встретишь реже, чем очень большого или очень маленького
человека или собаку и так далее? Или что-нибудь очень быстрое или
медленное, безобразное или прекрасное, белое или черное? Разве ты не
замечал, что во всех таких случаях крайности редки и
немногочисленны, зато середина заполнена в изобилии?
– Конечно, замечал, – сказал я.
– И если бы устроить состязание в испорченности,
то и первейших негодяев оказалось бы совсем немного, не так ли?
– Похоже, что так, – сказал я.
– Вот именно, – подтвердил он. – Но не в этом
сходство между рассуждениями и людьми – я сейчас просто следовал за
тобою, куда ты вел, – а в том, что иногда мы поверим доказательству
и признаем его истинным (хотя сами искусством рассуждать не
владеем), а малое время спустя решим, что оно ложно, – когда по
заслугам, а когда и незаслуженно, и так не раз и не два. Особенно,
как ты знаешь, это бывает с теми, кто любит отыскивать доводы и за и
против чего бы то ни было: в конце концов они начинают думать, будто
стали мудрее всех на свете и одни только постигли, что нет ничего
здравого и надежного ни среди вещей, ни среди суждений, но что всё
решительно испытывает приливы и отливы, точно воды Еврипа, и ни на
миг не остается на месте.
– Да, все, что ты сказал, – чистая правда.
– А когда так, Федон, было бы печально, если бы,
узнав истинное, надежное и доступное для понимания доказательство, а
затем встретившись с доказательствами такого рода, что иной раз они
представляются истинными, а иной раз ложными, мы стали бы винить не
себя самих и не свою неискусность, но от досады охотно свалили бы
собственную вину на доказательства и впредь, до конца дней упорно
ненавидели бы и поносили рассуждения, лишив себя истинного знания
бытия.
– Да, клянусь Зевсом, – сказал я, – это было бы
очень печально.
– Итак, – продолжал он, – прежде всего охраним
себя от этой опасности и не будем допускать мысли, будто в
рассуждениях вообще нет ничего здравого, скорее будем считать, что
это мы сами еще недостаточно здравы и надо мужественно искать
полного здравомыслия: тебе и остальным – ради всей вашей дальнейшей
жизни, мне же – ради одной только смерти. Сейчас обстоятельства
складываются так, что я рискую показаться вам не философом, а
завзятым спорщиком, а это уже свойство полных невежд. Они, если
возникает разногласие, не заботятся о том, как обстоит дело в
действительности; как бы внушить присутствующим свое мнение – вот
что у них на уме. В нынешних обстоятельствах, мне кажется, я
отличаюсь от них лишь тем, что не присутствующих стремлюсь убедить в
правоте моих слов – разве что между прочим, – но самого себя, чтобы
убедиться до конца. Вот мой расчет, дорогой друг, и погляди, какой
своекорыстный расчет: если то, что я утверждаю, окажется истиной,
хорошо, что я держусь такого убеждения, а если для умершего нет уже
ничего, я хотя бы не буду докучать присутствующим своими жалобами в
эти предсмертные часы, и, наконец, глупая моя выдумка тоже не
сохранится среди живых – это было бы неладно, – но вскоре погибнет.
Вот как я изготовился, Симмий и Кебет, чтобы
приступить к доказательству. А вы послушайтесь меня и поменьше
думайте о Сократе, но главным образом – об истине; и если решите,
что я говорю верно, соглашайтесь, а если нет – возражайте, как
только сможете. А не то смотрите – я увлекусь и введу в обман разом
и себя самого, и вас, а потом исчезну, точно пчела, оставившая в
ранке жало.
Однако ж вперед! Раньше всего напомните мне, что
говорили, – на случай, если я что забыл. Симмий, если не ошибаюсь,
был в сомнении и в страхе, как бы душа, хотя она и божественнее и
прекраснее тела, всё же не погибла первою – по той причине, что она
своего рода гармония. А Кебет, мне кажется, соглашается со мною в
том, что душа долговечнее тела, но, по его мнению, никто не может
быть уверен, что душа, после того как сменит и сносит много тел,
покидая последнее из них, не погибает и сама; именно гибель души и
есть, собственно, смерть, потому что тело отмирает и гибнет
непрестанно. Это или что другое нужно нам рассмотреть, Кебет и
Симмий?
Оба отвечали, что именно это.
– Скажите, – продолжал Сократ, – вы отвергаете
все прежние доводы целиком или же одни отвергаете, а другие нет?
– Одни отвергаем, – отвечали они, – другие нет.
– А как насчет того утверждения, что знание – это
припоминание и что, если так, душа наша непременно должна была
где-то существовать, прежде чем попала в в оковы тела?
– Я, – промолвил Кебет, – и тогда нашел это
утверждение на редкость убедительным, и сейчас ни в коем случае не
хочу от него отказываться.
– И я так считаю, – сказал Симмий, – и был бы
очень изумлен, если бы мое мнение вдруг переменилось.
Тогда Сократ:
– А между тем, друг-фиванец, тебе придется его
переменить, если ты останешься при мысли, что гармония – это нечто
составное, а душа – своего рода гармония, слагающаяся из натяжения
телесных начал. Ведь ты едва ли и сам допустишь, что гармония
сложилась и существовала прежде, нежели то, из чего ей предстояло
сложиться. Или все-таки допустишь?
– Никогда, Сократ! – воскликнул Симмий.
– Но ты видишь, что именно это ты нечаянно и
утверждаешь? Ведь ты говоришь, что душа существует до того, как
воплотится в человеческом образе, а значит, она существует,
сложившись из того, что еще не существует. Ведь гармония совсем
непохожа на то, чему ты уподобляешь ее сейчас: наоборот, сперва
рождается лира, и струны, и звуки, пока еще негармоничные, и лишь
последней возникает гармония и первой разрушается. Как же этот новый
твой довод будет звучать в лад с прежним?
– Никак не будет, – отвечал Симмий.
– А ведь если какому доводу и следует звучать
стройно и в лад, так уж тому, который касается гармонии.
– Да, конечно, – согласился Симмий.
– А у тебя не выходит в лад, – сказал Сократ. –
Так что гляди, какой из двух доводов ты выбираешь: что знание – это
припоминание или что душа – гармония.
– Первый, Сократ, несомненно, первый. Второй я
усвоил без доказательства, соблазненный его правдоподобием и
изяществом, то есть так же, как обычно принимает его большинство
людей. Но я прекрасно знаю, что доводы, доказывающие свою правоту
через правдоподобие, – это пустохвалы, и, если не быть настороже,
они обманут тебя самым жестоким образом. Так случается и в
геометрии, и во всем прочем. Иное дело – довод о припоминании и
знании: он строится на таком основании, которое заслуживает доверия.
Сколько я помню, мы говорили, что душа существует до перехода своего
в тело с такой же необходимостью, с какою ей принадлежит сущность,
именуемая бытием. Это основание я принимаю как верное и достаточное
и нимало в нем не сомневаюсь. А если так, я, по-видимому, не должен
признавать, что душа есть гармония, кем бы этот взгляд ни
высказывался – мною или еще кем-нибудь.
– Ну, так и что же, Симмий? Как тебе кажется,
может ли гармония или любое другое сочетание проявить себя как-то
иначе, чем составные части, из которых оно складывается?
– Никак не может.
– Стало быть, как я думаю, ни действовать само,
ни испытывать воздействие как-нибудь иначе, чем ни?
Симмий согласился.
– И значит, гармония не может руководить своими
составными частями, наоборот, она должна следовать за ними?
Симмий подтвердил.
– И уж подавно ей и не двинуться, и не прозвучать
вопреки составным частям, одним словом, никакого противодействия им
не оказать?
– Да, ни малейшего.
– Пойдем дальше. Всякая гармония по природе своей
такова, какова настройка?
– Не понимаю тебя.
– Ну, а если настройка лучше, полнее – допустим,
что такое возможно, – то и гармония была бы гармонией в большей
мере, а если хуже и менее полно, то в меньшей мере.
– Совершенно верно.
– А к душе это приложимо, так чтобы хоть
ненамного одна душа была лучше, полнее другой или хуже, слабее
именно как душа?
– Никак не приложимо!
– Продолжим, ради Зевса. Про душу говорят, что
одна обладает умом и добродетелью и потому хороша, а другая
безрассудна, порочна и потому дурна. Верно так говорится или
неверно?
– Да, верно.
– А если душу считать гармонией, как нам
обозначить то, что содержится в душах – добродетель и порочность?
Назовем первую еще одной гармонией, а вторую дисгармонией? И про
хорошую душу скажем, что она гармонична и, будучи сама гармонией,
несет в себе еще одну гармонию, а про другую – что она и сама
негармонична, и другой гармонии не содержит?
– Я, право, не знаю, как отвечать, – промолвил
Симмий. – Однако же ясно: раз мы так предположили, то и скажем
что-нибудь вроде этого.
– Но ведь мы уже признали, – продолжал Сократ, –
что ни одна душа не может быть более или менее душою, чем другая, а
это означает признать, что одна гармония не может быть более, полнее
или же менее, слабее гармонией, чем другая. Так?
– Именно так.
– А что не есть гармония более или менее, то не
должно быть и настроено более или менее. Верно?
– Верно.
– А что не настроено более или менее, будет ли
это причастно гармонии в большей или меньшей степени, нежели что-то
иное, или одинаково?
– Одинаково.
– Значит, душа, раз она всегда остается самой
собою и не бывает ни более ни менее душою, чем другая душа, не
бывает и настроенной в большей или меньшей степени?
– Да, не бывает.
– И если так, [одна душа] не может быть причастна
гармонии или дисгармонии более полно, [чем другая]?
– Выходит, что нет.
– Но повторяю, если так, может ли одна душа
оказаться причастной порочности или добродетели более полно, чем
другая? Ведь мы признали, что порочность – это дисгармония,
добродетель же – гармония.
– Никак не может.
– А еще вернее, пожалуй, – если быть
последовательными – ни одна душа, Симмий, порочности не причастна:
ведь душа – это гармония, а гармония, вполне оставаясь самой собою,
то есть гармонией, никогда не будет причастна дисгармонии.
– Да, конечно.
– И душа не будет причастна порочности, поскольку
она остается доподлинно душою.
– Можно ли сделать такой вывод из всего, что было
сказано?
– Из нашего рассуждения следует, что все души
всех живых существ одинаково хороши, коль скоро душам свойственно
оставаться тем, что они есть, – душами.
– Мне кажется, что так, Сократ.
– Но кажется ли тебе это верным? Кажется ли тебе,
что мы пришли бы к такому выводу, будь наше исходное положение – что
душа это гармония – верно?
– Ни в коем случае!
– Пойдем дальше, – продолжал Сократ. – Что правит
всем в человеке – душа, особенности если она разумна, или что иное,
как, по твоему?
– По-моему, душа.
– А правит она, уступая состоянию тела или
противясь ему? Я говорю вот о чем: если, например, у тебя жар и
жажда, душа влечет тебя в другую сторону и не велит пить, если ты
голоден – не велит есть, и в тысяче других случаев мы видим, как она
действует вопреки телу. Так или не так?
– Именно так.
– Но разве мы не согласились раньше, что душа,
если это гармония, всегда поет в лад с тем, как натянуты, или
отпущены, или звучат, или как-то еще размещены и расположены
составные части? Разве мы не согласились, что душа следует за ними и
никогда не властвует?
– Да, – отвечал Симмий, – согласились.
– Что же получается? Ведь мы убеждаемся, что она
действует как раз наоборот – властвует над всем тем, из чего, как
уверяют, она состоит, противится ему чуть ли не во всём и в течение
всей жизни всеми средствами подчиняет своей власти и то сурово и
больно наказывает, заставляя исполнять предписания врача или учителя
гимнастики, то обнаруживает некоторую снисходительность, то грозит,
то увещевает, обращаясь к страстям, гневным порывам и страхам словно
бы со стороны. Это несколько напоминает те стихи Гомера, где он
говорит об Одиссее:
В грудь он ударил себя и сказал раздраженному
сердцу:
Сердце, смирись; ты гнуснейшее вытерпеть силу имело...
Разве, по-твоему, у него сложились бы такие
стихи, если бы он думал, что душа – это гармония, что ею руководят
состояния тела, а не наоборот – что она сама руководит и властвует и
что она гораздо божественнее любой гармонии? Как тебе кажется?
– Клянусь Зевсом, Сократ, мне кажется, что ты
прав!
– Тогда, дорогой мой, нам никак не годится
утверждать, будто душа – своего рода гармония: так мы, пожалуй,
разойдемся и с божественным Гомером, и с самими собою.
– Верно, – подтвердил он.
– Вот и прекрасно, – сказал Сократ. – Фиванскую
Гармонию мы как будто умилостивили. Теперь очередь Кадма, Кебет. Как
нам приобрести его благосклонность, какими доводами?
– Мне кажется, ты найдешь как, – отозвался Кебет.
– Во всяком случае, твои возражения против гармонии меня просто
восхитили – настолько они были неожиданны. Слушая Симмия, когда он
говорил о своих затруднениях, я все думал: неужели кто-нибудь сумеет
справиться с его доводами? И мне было до крайности странно, когда он
не выдержал и первого твоего натиска. Так что я бы не удивился, если
бы та же участь постигла и Кадмовы доводы.
– Ах, милый ты мой, – сказал Сократ, – не надо
громких слов – как бы кто не испортил наше рассуждение еще раньше,
чем оно началось. Впрочем, об этом позаботится божество, а мы
по-гомеровски вместе пойдем и посмотрим, дело ли ты говоришь.
Что ты хочешь выяснить? Главное, если я не
ошибаюсь, вот что. Ты требуешь доказательства, что душа наша
неуничтожима и бессмертна: в противном случае, говоришь ты, отвага
философа, которому предстоит умереть и который полон бодрости и
спокойствия, полагая, что за могилою он найдет блаженство, какого не
мог бы обрести, если бы прожил свою жизнь иначе, – его отвага
безрассудна и лишена смысла. Пусть мы обнаружили, что душа сильна и
богоподобна, что она существовала и до того, как мы родились людьми,
– все это, по-твоему, свидетельствует не о бессмертии души, но лишь
о том, что она долговечна и уже существовала где-то в прежние
времена неизмеримо долго, многое постигла и многое совершила. Но к
бессмертию это ее нисколько не приближает, напротив, само вселение
ее в человеческое тело было для души началом гибели, словно болезнь.
Скорбя проводит она эту свою жизнь, чтобы под конец погибнуть в том,
что зовется смертью. И совершенно безразлично, утверждаешь ты,
войдет ли она в тело раз или много раз, по крайней мере для наших
опасений: если только человек не лишен рассудка, он непременно
должен опасаться – ведь он не знает, бессмертна ли душа, и не может
этого доказать.
Вот, сколько помнится, то, что ты сказал, Кебет.
Я повторяю это нарочно, чтобы ничего не пропустить и чтобы ты мог
что-нибудь прибавить или убавить, если пожелаешь.
А Кебет в ответ:
– Нет, Сократ, сейчас я ничего не хочу ни
убавлять, ни прибавлять. Это все, что я сказал.
Сократ задумался и надолго умолк. Потом начал
так:
– Не простую задачу задал ты, Кебет. Чтобы ее
решить, нам придется исследовать причину рождения и разрушения в
целом. И если ты не против, я расскажу тебе о том, что приключилось
со мной во время такого исследования. Если что из этого рассказа
покажется тебе полезным, ты сможешь использовать это для
подкрепления твоих взглядов.
– Конечно, я не против, – ответил Кебет.
– Тогда послушай. В молодые годы, Кебет, у меня
была настоящая страсть к тому виду мудрости, который называют
познанием природы. Мне представлялось чем-то возвышенным знать
причины каждого явления – почему что рождается, почему погибает и
почему существует. И я часто бросался из крайности в крайность и вот
какого рода вопросы задавал себе в первую очередь: когда теплое и
холодное вызывают гниение, не тогда ли как судили некоторые,
образуются живые существа? Чем мы мыслим – кровью, воздухом или
огнем? Или же ни тем, ни другим и ни третьим, а это наш мозг
вызывает чувство слуха, в зрения, и обоняния, а из них возникают
память и представление, а из памяти и представления, когда они
приобретут устойчивость, возникает знание?
Размышлял я и о гибели всего этого, и о
переменах, которые происходят в небе и на Земле, и всё для того,
чтобы в конце концов счесть себя совершенно непригодным к такому
исследованию. Сейчас я приведу тебе достаточно веский довод. До тех
пор я кое-что знал ясно – так казалось и мне самому, и остальным, –
а теперь, из-за этих исследований, я окончательно ослеп и утратил
даже то знание, что имел прежде, – например, среди многого прочего
перестал понимать, почему человек растет. Прежде я думал, что это
каждому ясно: человек растет потому, что ест и пьет. Мясо
прибавляется к мясу, кости – к костям, и так же точно, по тому же
правилу, всякая часть [пищи] прибавляется к родственной ей части
человеческого тела и впоследствии малая величина становится большою.
Так малорослый человек делается крупным. Вот как я думал прежде.
Правильно, по-твоему, или нет?
– По-моему, правильно, – сказал Кебет.
– Или еще. Если высокий человек, стоя рядом с
низкорослым, оказывался головою выше, то никаких сомнений это у меня
не вызывало. И два коня рядом – тоже. Или еще нагляднее: десять мне
казалось больше восьми потому, что к восьми прибавляется два, а вещь
в два локтя длиннее вещи в один локоть потому, что превосходит ее на
половину собственной длины.
– Ну, хорошо, а что ты думаешь обо всем этом
теперь? – спросил Кебет.
– Теперь, клянусь Зевсом, – сказал Сократ, – я
далек от мысли, будто знаю причину хотя бы одной из этих вещей. Я не
решаюсь судить даже тогда, когда к единице прибавляют единицу, – то
ли единица, к которой прибавили другую, стала двумя, то ли
прибавляемая единица и та, к которой прибавляют, вместе становятся
двумя через прибавление одной к другой. Пока каждая из них была
отдельно от другой, каждая оставалась единицей и двух тогда не
существовало, но вот они сблизились, и я спрашиваю себя: в этом ли
именно причина возникновения двух – в том, что произошла встреча,
вызванная взаимным сближением? И если кто разделяет единицу, я не
могу больше верить, что двойка появляется именно по этой причине –
через разделение, ибо тогда причина будет как раз противоположной
причине образования двух: только что мы утверждали, будто единицы
взаимно сближаются и прибавляются одна к другой, а теперь говорим,
что одна от другой отделяется и отнимается! И я не могу уверить
себя, будто понимаю, почему и как возникает единица или что бы то ни
было иное – почему оно возникает, гибнет или существует. Короче
говоря, этот способ исследования мне решительно не нравится, и я
выбираю себе наугад другой.
Но однажды мне кто-то рассказал, как он вычитал в
книге Анаксагора, что всему в мире сообщает порядок и всему служит
причиной Ум; и эта причина мне пришлась по душе, я подумал, что это
прекрасный выход из затруднений, если всему причина – Ум. Я решил,
что если так, то Ум-устроитель должен устраивать все наилучшим
образом и всякую вещь помещать там, где ей всего лучше находиться. И
если кто желает отыскать причину, по которой что-либо рождается,
гибнет или существует, ему следует выяснить, как лучше всего этой
вещи существовать, действовать или самой испытывать какое-либо
воздействие. Исходя из этого рассуждения, человеку не нужно
исследовать ни в себе, ни в окружающем ничего иного, кроме самого
лучшего и самого совершенного. Конечно, он непременно должен знать и
худшее, ибо знание лучшего и знание худшего – это одно и то же
знание. Рассудивши так, я с удовольствием думал, что нашел в
Анаксагоре учителя, который откроет мне причину бытия, доступную
моему разуму, и прежде всего расскажет, плоская ли Земля или
круглая, а рассказавши, объяснит необходимую причину – сошлется на
самое лучшее, утверждая, что Земле лучше всего быть именно такой, а
не какой-нибудь еще. И если он скажет, что Земля находится в центре
[мира], объяснит, почему ей лучше быть в центре. Если он откроет мне
все это, думал я, я готов не искать причины иного рода. Да, я был
готов спросить у него таким же образом о Солнце, Луне и звездах – о
скорости их движения относительно друг друга, об их поворотах и обо
всем остальном, что с ними происходит: каким способом каждое из них
действует само или подвергается воздействию. Я ни на миг не допускал
мысли, что, назвавши их устроителем Ум, Анаксагор может ввести еще
какую-то причину помимо той, что им лучше всего быть в таком
положении, в каком они и находятся. Я полагал, что, определив
причину каждого из них и всех вместе, он затем объяснит, что всего
лучше для каждого и в чем их общее благо. И эту свою надежду я не
отдал бы ни за что! С величайшим рвением принялся я за книги
Анаксагора, чтобы поскорее их прочесть и поскорее узнать, что же
всего лучше и что хуже.
Но с вершины изумительной этой надежды, друг
Кебет, я стремглав полетел вниз, когда, продолжая читать, увидел,
что Ум у него остается без всякого применения и что порядок вещей
вообще не возводится ни к каким причинам, но приписывается –
совершенно нелепо – воздуху, эфиру, воде и многому иному. На мой
взгляд, это все равно, как если бы кто сперва объявил, что всеми
своими действиями Сократ обязан Уму, а потом, принявшись объяснять
причины каждого из них в отдельности, сказал: "Сократ сейчас сидит
здесь потому, что его тело состоит из костей и сухожилий и кости
твердые и отделены одна от другой сочленениями, а сухожилия могут
натягиваться и расслабляться и окружают кости – вместе с мясом и
кожею, которая все охватывает. И так как кости свободно ходят в
своих суставах, сухожилия, растягиваясь и напрягаясь, позволяют
Сократу сгибать ноги и руки. Вот по этой-то причине он и сидит
теперь здесь, согнувшись". И для беседы нашей можно найти сходные
причины – голос, воздух, слух и тысячи иных того же рода,
пренебрегши истинными причинами – тем, что, раз уж афиняне почли за
лучшее меня осудить, я в свою очередь счел за лучшее сидеть здесь,
счел более справедливым остаться на месте и понести то наказание,
какое они назначат. Да, клянусь собакой, эти жилы и эти кости уже
давно, я думаю, были бы где-нибудь в Мегарах или в Беотии,
увлеченные ложным мнением о лучшем, если бы я не признал более
справедливым и более прекрасным не бежать и не скрываться, но
принять любое наказание, какое бы ни назначило мне государство.
Нет, называть подобные вещи причинами – полная
бессмыслица. Если бы кто говорил, что без всего этого – без костей,
сухожилий и всего прочего, чем я владею, – я бы не мог делать то,
что считаю нужным, он говорил бы верно. Но утверждать, будто они
причина всему, что я делаю, и в то же время что в данном случае я
повинуюсь Уму, а не сам избираю наилучший образ действий, было бы
крайне необдуманно. Это значит не различать между истинной причиной
и тем, без чего причина не могла бы быть причиною. Это последнее
толпа, как бы ощупью шаря в потемках, называет причиной – чуждым,
как мне кажется, именем. И вот последствия: один изображает Землю
недвижно покоящейся под небом и окруженною неким вихрем, для другого
она что-то вроде мелкого корыта, поддерживаемого основанием из
воздуха, но силы, которая наилучшим образом устроила все так, как
оно есть сейчас, – этой силы они не ищут и даже не предполагают за
нею великой божественной мощи. Они надеются в один прекрасный день
изобрести Атланта, еще более мощного и бессмертного, способного еще
тверже удерживать все на себе, и нисколько не предполагают, что в
действительности все связуется и удерживается благим и должным. А я
с величайшей охотою пошел бы в учение к кому угодно, лишь бы узнать
и понять такую причину. Но она не далась мне в руки, я и сам не
сумел ее отыскать, и от других ничему не смог научиться, и тогда в
поисках причины я снова пустился в плавание. Хочешь, я расскажу
тебе, Кебет, о моих стараниях?
– Очень хочу! – отвечал Кебет.
– После того, – продолжал Сократ, – как я
отказался от исследования бытия, я решил быть осторожнее, чтобы меня
не постигла участь тех, кто наблюдает и исследует солнечное
затмение. Иные из них губят себе глаза, если смотрят прямо на
Солнце, а не на его образ в воде или еще в чем-нибудь подобном, –
вот и я думал со страхом, как бы мне совершенно не ослепнуть душою,
рассматривая вещи глазами и пытаясь коснуться их при помощи того или
иного из чувств. Я решил, что надо прибегнуть к отвлеченным понятиям
и в них рассматривать истину бытия, хотя уподобление, которым я при
этом пользуюсь, в чем-то, пожалуй, и ущербно. Правда, я не очень
согласен, что тот, кто рассматривает бытие в понятиях, лучше видит
его в уподоблении, чем если рассматривать его в осуществлении. Как
бы там ни было, именно этим путем двинулся я вперед, каждый раз
полагая в основу понятие, которое считал самым надежным; и то, что,
как мне кажется, согласуется с этим понятием, я принимаю за истинное
– идет ли речь о причине или о чем бы то ни было ином, – а что не
согласно с ним, то считаю неистинным. Но я хочу яснее высказать тебе
свою мысль. Мне кажется, ты меня еще не понимаешь.
– Да, клянусь Зевсом, – сказал Кебет. – Не
совсем.
– Но ведь я не говорю ничего нового, а лишь
повторяю то, что говорил всегда – и ранее, и только что в нашей
беседе. Я хочу показать тебе тот вид причины, который я исследовал,
и вот я снова возвращаюсь к уже сто раз слышанному и с него начинаю,
полагая в основу, что существует прекрасное само по себе, и благое,
я великое, и все прочее. Если ты согласишься со мною и признаешь,
что так оно и есть, я надеюсь, это позволит мне открыть и показать
тебе причину бессмертия души.
– Считай, что я согласен, и иди прямо к цели, –
отвечал Кебет.
– Посмотри же, примешь ли ты вместе со мною и то,
что за этим следует. Если существует что-либо прекрасное помимо
прекрасного самого по себе, оно, мне кажется, не может быть
прекрасным иначе, как через причастность прекрасному самому по себе.
Так же я рассуждаю и во всех остальных случаях. Признаешь ты эту
причину?
– Признаю.
– Тогда я уже не понимаю и не могу постигнуть
иных причин, таких мудреных, и, если мне говорят, что такая-то вещь
прекрасна либо ярким своим цветом, либо очертаниями, либо еще
чем-нибудь в таком же роде, я отметаю все эти объяснения, они только
сбивают меня с толку. Просто, без затей, может быть даже слишком
бесхитростно, я держусь единственного объяснения: ничто иное не
делает вещь прекрасною, кроме присутствия прекрасного самого по себе
или общности с ним, как бы она ни возникла. Я не стану далее это
развивать, и настаиваю лишь на том, что все прекрасные вещи
становятся прекрасными через прекрасное [само по себе]. Надежнее
ответа нельзя, по-моему, дать ни себе, ни кому другому. Опираясь на
него, я ужа не оступлюсь. Да, я надежно укрылся от опасностей,
сказавши себе и другим, что прекрасное становится прекрасным
благодаря прекрасному. И тебе тоже так кажется?
– Да.
– И стало быть, большие вещи суть большие и
бо'льшие суть бо'льшие благодаря большому [самому по себе], а
меньшие – благодаря малому?
– Да.
– И значит, если бы тебе сказали, что один
человек головою больше другого, а другой головою меньше, ты не
принял бы этого утверждения, но решительно бы его отклонил, заявивши
так: "Я могу сказать лишь одно – что всякая вещь, которая больше
другой вещи, такова лишь благодаря большому, то есть она становится
больше благодаря большому, а меньшее становится меньшим лишь
благодаря малому, то есть малое делает его меньшим". А если бы ты
признал, что один человек головою больше, а другой меньше, тебе
пришлось бы, я думаю, опасаться, как бы не встретить возражения:
прежде всего в том, что большее у тебя есть большее, а меньшее –
меньшее по одной и той же причине, а затем и в том, что большее
делает большим малое, – ведь голова-то мала! А быть большим
благодаря малому – это уж диковина! Ну что, не побоялся бы ты таких
возражений?
– Побоялся бы, – отвечал Кебет со смехом.
– Стало быть, – продолжал Сократ, – ты побоялся
бы утверждать, что десять больше восьми на два и по этой причине
превосходит восемь, но сказал бы, что десять превосходит восемь
количеством и через количество? И что вещь в два локтя больше вещи в
один локоть длиною, но не на половину собственного размера? Ведь и
здесь приходится опасаться того же самого.
– Совершенно верно.
– Пойдем дальше. Разве не остерегся бы ты
говорить, что, когда прибавляют один к одному, причина появления
двух есть прибавление, а когда разделяют одно – то разделение? Разве
ты не закричал бы во весь голос, что знаешь лишь единственный путь,
каким возникает любая вещь, – это ее причастность особой сущности,
которой она должна быть причастна, и что в данном случае ты можешь
назвать лишь единственную причину возникновения двух – это
причастность двойке. Всё, чему предстоит сделаться двумя, должно
быть причастно двойке, а чему предстоит сделаться одним – единице. А
всяких разделений, прибавлений и прочих подобных тонкостей тебе даже
и касаться не надо. На эти вопросы пусть отвечают те, кто помудрее
тебя, ты же, боясь, как говорится, собственной тени и собственного
невежества, не расставайся с надежным и верным основанием, которое
мы нашли, и отвечай соответственно. Если же кто ухватится за само
основание, ты не обращай на это внимания и не торопись с ответом,
пока не исследуешь вытекающие из него следствия и не определишь, в
лад или не в лад друг другу они звучат. А когда потребуется
оправдать само основание, ты сделаешь это точно таким же образом –
положишь в основу другое, лучшее в сравнении с первым, как тебе
покажется, и так до тех пор, пока не достигнешь удовлетворительного
результата. Но ты не станешь все валить в одну кучу, рассуждая разом
и об исходном понятии, и о его следствиях, как делают завзятые
спорщики: ведь ты хочешь найти подлинное бытие, а среди них,
пожалуй, ни у кого нет об этом ни речи, ни заботы. Своею
премудростью они способны все перепутать и замутить, но при этом
остаются вполне собою довольны. Ты, однако ж, философ и потому, я
надеюсь, поступишь так, как я сказал.
– Ты совершенно прав, – в один голос откликнулись
Симмий и Кебет.
Эхекрат. Клянусь Зевсом, Федон, иначе и
быть не могло! Мне кажется, Сократ говорил изумительно ясно, так что
впору понять и слабому уму.
Федон. Верно, Эхекрат, все, кто был тогда
подле него, так и решили.
Эхекрат. Вот и мы тоже, хоть нас там и не
было, и мы лишь сейчас это слышим. А о чем шла беседа после этого?
Федон. Помнится, когда Симмий и Кебет с
ним согласились и признали, что каждая из идей существует и что вещи
в силу причастности к ним получают их имена, после этого Сократ
спросил:
– Если так, то, говоря, что Симмий больше Сократа
и меньше Федона, ты утверждаешь, что в Симмий есть и большое и малое
само по себе разом. Верно?
– Верно.
– Но ты, конечно, согласен со мною, что выражение
"Симмий выше Сократа" полностью истине не соответствует? Ведь Симмий
выше не потому, что он Симмий, не по природе своей, но через то
большое, которое в нём есть. И выше Сократа он не потому, что Сократ
– это Сократ, а потому, что Сократ причастен малому – сравнительно с
большим, которому причастен Симмий.
– Правильно.
– И ниже Федона он не потому, что Федон – это
Федон, а потому, что причастен малому сравнительно с большим,
которому причастен Федон?
– Да, это так.
– Выходит, что Симмия можно называть разом и
маленьким, и большим по сравнению с двумя другими: рядом с
великостью одного он ставит свою малость, а над малостью второго
воздвигает собственную великость.
Тут Сократ улыбнулся и заметил:
– Видно, я сейчас заговорю как по писаному. Но
как бы там ни было, а говорю я, сдается мне, дело.
Кебет подтвердил.
– Цель же моя в том, – продолжал Сократ, – чтобы
ты разделил мой взгляд. Мне кажется, не только большое никогда не
согласится быть одновременно и большим и малым, но и большое в нас
никогда на допустит и не примет малого, не пожелает оказаться меньше
другого. Но в таком случае одно из двух: либо большое отступает и
бежит, когда приблизится его противник – малое, либо гибнет, когда
противник подойдет вплотную. Ведь, оставаясь на месте и принявши
малое, оно сделается иным, чем было раньше, а именно этого оно и не
хочет. Вот, например, я принял и допустил малое, но остаюсь самим
собою – я прежний Сократ, маленький, тогда как то, большое, не смеет
быть малым, будучи большим. Так же точно и малое в нас никогда не
согласится стать или же быть большим, и вообще ни одна из
противоположностей, оставаясь тем, что она есть, не хочет ни
превращаться в другую противоположность, ни быть ею, но либо
удаляется, либо при этом изменении гибнет.
– Да, – сказал Кебет, – мне кажется, что именно
так оно и есть.
Услыхав это, кто-то из присутствовавших – я уже
не помню точно кто – сказал:
– Ради богов, да ведь мы раньше сошлись и
согласились как раз на обратном тому, что говорим сейчас! Разве мы
не согласились, что из меньшего возникает большее, а из большего
меньшее и что вообще таково происхождение противоположностей – из
противоположного? А теперь, сколько я понимаю, мы утверждаем, что
так никогда не бывает!
Сократ обернулся, выслушал и ответил так:
– Ты смело напомнил! Но ты не понял разницы между
тем, что говорится теперь и говорилось тогда. Тогда мы говорили, что
из противоположной вещи рождается противоположная вещь, а теперь –
что сама противоположность никогда не перерождается в собственную
противоположность ни в нас, ни в природе. Тогда, друг, мы говорили о
вещах, несущих в себе противоположное, называя их именами этих
противоположностей, а теперь о самих противоположностях, присутствие
которых дает имена вещам: это они, утверждаем мы теперь, никогда не
соглашаются возникнуть одна из другой.
Тут он взглянул на Кебета и прибавил:
– Может быть, и тебя, Кебет, смутило что-нибудь
из того, что высказал он?
– Нет, – отвечал Кебет, – нисколько. Но я не
стану отрицать, что многое смущает и меня.
– Значит, мы согласимся без всяких оговорок, что
противоположность никогда не будет противоположна самой себе?
– Да, без малейших оговорок.
– Теперь взгляни, согласишься ли ты со мною еще
вот в каком вопросе. Ты ведь называешь что-либо холодным или
горячим?
– Называю.
– И это то же самое, что сказать "снег" и
"огонь"?
– Нет, конечно, клянусь Зевсом!
– Значит, горячее – это иное, чем огонь, и
холодное – иное, чем снег?
– Да.
– Но ты, видимо, понимаешь, что никогда снег (как
мы сейчас только говорили), приняв горячее, уже не будет тем, чем
был прежде, – снегом, и вместе с тем горячим: когда горячее
приблизится, он либо отступит перед ним, либо погибнет.
– Совершенно верно.
– Равным образом ты, видимо, понимаешь, что
огонь, когда приближается холодное, либо сходит с его пути, либо же
гибнет: он и не хочет и не в силах, принявши холод, быть тем, чем
был прежде, – огнем, и, вместе, холодным.
– Да, это так.
– Значит, в иных из подобных случаев бывает, что
одно и то же название сохраняется на вечные времена не только за
самой идеей, но и за чем-то иным, что не есть идея, но обладает ее
формою во все время своего существования. Сейчас, я надеюсь, ты
яснее поймешь, о чем я говорю. Нечетное всегда должно носить то имя,
каким я его теперь обозначаю, или не всегда?
– Разумеется, всегда.
– Но одно ли оно из всего существующего – вот что
я хочу спросить, – или же есть еще что-нибудь: хоть оно и не то же
самое, что нечетное, все-таки кроме своего особого имени должно
всегда называться нечетным, ибо по природе своей неотделимо от
нечетного? То, о чем я говорю, видно на многих примерах, и в
частности на примере тройки. Поразмысли-ка над числом "три". Не
кажется ли тебе, что его всегда надо обозначать и своим названием, и
названием нечетного, хотя нечетное и не совпадает с тройкой? Но
такова уж природа и тройки, и пятерки, и вообще половины всех чисел,
что каждое из них всегда нечетно и все же ни одно полностью с
нечетным не совпадает. Соответственно два, четыре и весь другой ряд
чисел всегда четны, хотя полностью с четным ни одно из них не
совпадает. Согласен ты со мною или нет?
– Как не согласиться! – отвечал Кебет.
– Тогда следи внимательнее за тем, что я хочу
выяснить. Итак, по-видимому, не только все эти противоположности не
принимают друг друга, но и все то, что не противоположно друг другу,
однако же постоянно несет в себе противоположности, как видно, не
принимает той идеи, которая противоположна идее, заключенной в нем
самом, но, когда она приближается, либо гибнет, либо отступает перед
нею. Разве мы не признаем, что число "три" скорее погибнет и
претерпит все, что угодно, но только не станет, будучи тремя,
чётным?
– Несомненно, признаем, – сказал Кебет.
– Но между тем два не противоположно трем?
– Нет, конечно.
– Стало быть, не только противоположные идеи не
выстаивают перед натиском друг друга, но существует и нечто другое,
не выносящее сближения с противоположным?
– Совершенно верно.
– Давай определим, что это такое, если сможем?
– Очень хорошо.
– Не то ли это, Кебет, что, овладев вещью,
заставляет ее принять не просто свою собственную идею, но [идею]
того, что всегда противоположно тому, [чем оно овладевает]?
– Как это?
– Так, как мы только что говорили. Ты же помнишь,
что всякая вещь, которою овладевает идея троичности, есть непременно
и три, и нечетное.
– Отлично помню.
– К такой вещи, утверждаем мы, никогда не
приблизится идея, противоположная той форме, которая эту вещь
создает.
– Верно.
– А создавала ее форма нечетности?
– Да.
– И противоположна ей идея четности?
– Да.
– Стало быть, к трем идея четности никогда не
приблизится.
– Да, никогда.
– У трех, скажем мы, нет доли в четности.
– Нет.
– Стало быть, три лишено четности.
– Да.
– Я говорил, что мы должны определить, что, не
будучи противоположным чему-то иному, все же не принимает этого как
противоположного. Вот, например, тройка: она не противоположна
четному и тем не менее не принимает его, ибо привносит нечто всегда
ему противоположное. Равным образом двойка привносит нечто
противоположное нечетности, огонь – холодному и так далее. Теперь
гляди, не согласишься ли ты со следующим определением: не только
противоположное не принимает противоположного, но и то, что
привносит нечто противоположное в другое, приближаясь к нему,
никогда не примет ничего сугубо противоположного тому, что оно
привносит. Вспомни-ка еще разок (в этом нет вреда – слушать
несколько раз об одном и том же): пять не примет идеи четности, а
десять, удвоенное пять, – идеи нечетности. Разумеется, это –
десятка, – хоть сама и не имеет своей противоположности, вместе с
тем идеи нечетности не примет. Так же ни полтора, ни любая иная
дробь того же рода не примет идеи целого, ни треть, как и все прочие
подобные ей дроби. Надеюсь, ты поспеваешь за мною и разделяешь мой
взгляд.
– Да, – разделяю, и с величайшей охотой! – сказал
Кебет.
– Тогда вернемся к началу. Только теперь,
пожалуйста, отвечай мне не так, как я спрашиваю, но подражая мне.
Дело в том, что помимо прежнего надежного ответа я усмотрел по ходу
нашего рассуждения еще и другую надежность. Если бы ты спросил меня,
что должно появиться в теле, чтобы оно стало теплым, я бы уже не дал
того надежного, но невежественного ответа, не сказал бы, что
теплота, но, наученный нашим рассуждением, ответил бы потоньше – что
огонь. И если ты спросишь, от чего тело становится недужным, не
скажу, что от недуга, но – от горячки. Подобным же образом, если ты
спросишь меня, что должно появиться в числе, чтобы оно сделалось
нечетным, я отвечу, что не нечетность, но единица. Ну и так далее.
Теперь ты достаточно ясно понимаешь, что я имею в виду?
– Вполне достаточно.
– Тогда отвечай: что должно появиться в теле,
чтобы оно было живым?
– Душа, – сказал Кебет.
– И так бывает всегда.
– А как может быть иначе? – спросил тот.
– Значит, чем бы душа ни овладела, она всегда
привносит в это жизнь?
– Да, верно.
– А есть ли что-нибудь противоположное жизни или
нет?
– Есть.
– Что же это?
– Смерть.
– Но – в этом мы уже согласились – душа никогда
не примет противоположного тому, что всегда привносит сама?
– Без всякого сомнения! – отвечал Кебет.
– Что же выходит? Как мы сейчас назвали то, что
не принимает идеи четного?
– Нечетным.
– А не принимающее справедливости и то, что
никогда не примет искусности?
– Одно – неискусным, другое – несправедливым.
– Прекрасно. А то, что не примет смерти, как мы
назовем?
– Бессмертным.
– Но ведь душа не принимает смерти?
– Нет.
– Значит, душа бессмертна?
– Бессмертна, – сказал Кебет.
– Прекрасно. Будем считать, что это доказано? Или
как по-твоему?
– Доказано, Сократ, и к тому же вполне
достаточно.
– Пойдем дальше, Кебет. Если бы нечетное должно
было быть неуничтожимым, то, вероятно, было бы неуничтожимо и три.
– Разумеется.
– Ну, а если бы и холодному непременно следовало
быть неуничтожимым, то, когда к снегу приблизили бы тепло, он
отступил бы целый и нерастаявший, не так ли? Ведь погибнуть он бы не
мог, но не мог бы и принять теплоту, оставаясь самим собой.
– Правильно, – сказал Кебет.
– Точно так же, я думаю, если бы неуничтожимым
было горячее, то, когда к огню приблизилось бы что-нибудь холодное,
он бы не гаснул, не погибал, но отступал бы невредимым.
– Непременно.
– Но не должны ли мы таким же образом рассуждать
и о бессмертном? Если бессмертное неуничтожимо, душа не может
погибнуть, когда к ней приблизится смерть: ведь из всего сказанного
следует, что она не примет смерти и не будет мертвой! Точно так же,
как не будет четным ни три, ни [само] нечетное, как не будет
холодным ни огонь, ни теплота в огне! "Что, – однако же,
препятствует нечетному, – скажет кто-нибудь, – не становясь четным,
когда четное приблизится, – так мы договорились – погибнуть и
уступить свое место четному?" И мы не были бы вправе решительно
настаивать, что нечетное не погибнет, – ведь нечетное не обладает
неуничтожимостью. Зато если бы было признано, что оно неуничтожимо,
мы без труда отстаивали бы свой взгляд, что под натиском четного
нечетное и три спасаются бегством. То же самое мы могли бы
решительно утверждать об огне и горячем, а равно и обо всем
остальном. Верно?
– Совершенно верно.
– Теперь о бессмертном. Если признано, что оно
неуничтожимо, то душа не только бессмертна, но и неуничтожима. Если
же нет, потребуется какое-то новое рассуждение.
– Нет, нет, – сказал Кебет, – ради этого нам
нового рассуждения не нужно. Едва ли что избегнет гибели, если даже
бессмертное, будучи вечным, ее примет.
– Я полагаю, – продолжал Сократ, – что ни бог, ни
сама идея жизни, ни все иное бессмертное никогда не гибнет, – это,
видимо, признано у всех.
– Да, у всех людей, клянусь Зевсом, и еще больше,
мне думается, у богов.
– Итак, поскольку бессмертное неуничтожимо, душа,
если она бессмертна, должна быть в то же время и неуничтожимой.
– Бесспорно, должна.
– И когда к человеку подступает смерть, то
смертная его часть, по-видимому, умирает, а бессмертная отходит
целой и невредимой, сторонясь смерти.
– По-видимому, так.
– Значит, не остается ни малейших сомнений,
Кебет, что душа бессмертна и неуничтожима. И поистине, наши души
будут существовать в Аиде.
– Что до меня, Сократ, то мне возразить нечего, я
полон доверия к нашему доказательству. Но если Симмий или кто другой
хотят что-нибудь сказать, лучше им не таить свои мысли про себя:
ведь другого случая высказаться и услышать твои разъяснения по этому
поводу, пожалуй, не представится, так что лучше не откладывать.
– Я тоже, – заметил Симмий, – не нахожу, в чем из
сказанного я мог бы усомниться. Но величие самого предмета и
недоверие к человеческим силам все же заставляют меня в глубине души
сомневаться в то, что сегодня говорилось.
– И не только в этом, Симмий, – отвечал Сократ, –
твои слова надо бы отнести и к самым первым основаниям. Хоть вы и
считаете их достоверными, всё же надо их рассмотреть более
отчетливо. И если вы разберете их достаточно глубоко, то, думаю я,
достигнете в доказательстве результатов, какие только доступны
человеку. В тот миг, когда это станет для вас ясным, вы прекратите
искать.
– Верно, – промолвил Симмий.
– А теперь, друзья, – продолжал Сократ, –
правильно было бы поразмыслить еще вот над чем. Если душа
бессмертна, она требует заботы не только на нынешнее время, которое
мы называем своей жизнью, но на все времена, и, если кто не
заботится о своей душе, впредь мы будем считать это грозной
опасностью. Если бы смерть была концом всему, она была бы счастливой
находкой для дурных людей: скончавшись, они разом избавлялись бы и
от тела, и – вместе с душой – от собственной порочности. Но на
самом-то деле, раз выяснилось, что душа бессмертна, для нее нет,
видно, иного прибежища и спасения от бедствий, кроме единственного:
стать как можно лучше и как можно разумнее. Ведь душа не уносит с
собою в Аид ничего, кроме воспитания и образа жизни, и они-то,
говорят, доставляют умершему либо неоценимую пользу, либо чинят
непоправимый вред с самого начала его пути в загробный мир.
Рассказывают же об этом так. Когда человек умрет,
его гений, который достался ему на долю еще при жизни, уводит
умершего в особое место, где все, пройдя суд, должны собраться,
чтобы отправиться в Аид с тем вожатым, какому поручено доставить их
отсюда туда. Обретя там участь, какую и должно, и пробывши срок,
какой должны пробыть, они возвращаются сюда под водительством
другого вожатого, и так повторяется вновь и вновь через долгие
промежутки времени. Но путь их, конечно, не таков, каким его
изображает Телеф у Эсхила. Он говорит, что дорога в Аид проста, но
мне она представляется и не простою и не единственной: ведь тогда не
было бы нужды в вожатых, потому что никто не мог бы сбиться, будь
она единственной, эта дорога. Нет, похоже, что на ней много распутий
и перекрестков: я сужу по священным обрядам и обычаям, которые
соблюдаются здесь у нас.
Если душа умеренна и разумна, она послушно
следует за вожатым, и то, что окружает ее, ей знакомо. А душа,
которая страстно привязана к телу, как я уже говорил раньше, долго
витает около него – около видимого места, долго упорствует и много
страдает, пока наконец приставленный к ней гений силою не уведет ее
прочь. Но остальные души, когда она к ним присоединится, все
отворачиваются и бегут от нее, не желают быть ей ни спутниками, ни
вожатыми, если окажется, что она нечиста, замарана неправедным
убийством или иным каким-либо из деяний, которые совершают подобные
ей души. И блуждает она одна во всяческой нужде и стеснении, пока не
исполнятся времена, по прошествии коих она силою необходимости
водворяется обиталище, коего заслуживает. А души, которые про вели
свою жизнь в чистоте и воздержности, находят спутников, и вожатых
среди богов, и каждая поселяется в подобающем ей месте.
А на Земле, как меня убедили, есть много
удивительных мест, и она совсем иная, чем думают те, кто привык
рассуждать о ее размерах и свойствах.
– Тут Симмий прервал его:
– Как это, Сократ? Я ведь и сам много слышал о
Земле, но не знаю, в чем ты убедился, и охотно послушал бы тебя.
– Видишь ли, Симмий, просто пересказать, что и
как, – для этого, на мой взгляд, умения Главка не надо, но доказать,
что так именно оно и есть, никакому Главку, пожалуй, не под силу.
Мне-то, во всяком случае, не справиться, а самое главное, Симмий,
будь я даже на это способен, мне теперь, верно, не хватило бы и
жизни на такой длинный разговор. Каков, однако ж, по моему
убеждению, вид Земли и каковы ее области, я могу описать: тут
никаких препятствий нет.
– Прекрасно! – воскликнул Симмий. – С нас и этого
хватит!
– Вот в чем я убедился. Во-первых, если Земля
кругла и находится посреди неба, она не нуждается ни в воздухе, ни в
иной какой-либо подобной силе, которая удерживала бы ее от падения,
– для этого достаточно однородности неба повсюду и собственного
равновесия Земли, ибо однородное, находящееся в равновесии тело,
помещенное посреди однородного вместилища, не может склониться ни в
ту, ни в иную сторону, но останется однородным и неподвижным. Это
первое, в чем я убедился.
– И правильно, – сказал Симмий.
– Далее, я уверился, что Земля очень велика и что
мы, обитающие от Фасиса до Геракловых Столпов занимаем лишь малую ее
частицу; мы теснимся вокруг нашего моря, словно муравьи или лягушки
вокруг болота, и многие другие народы живут во многих иных местах,
сходных с нашими. Да, ибо повсюду по Земле есть множество впадин,
различных по виду и по величине, куда стеклись вода, туман и воздух.
Но сама Земля покоится чистая в чистом небе со звездами –
большинство рассуждающих об этом обычно называют это небо эфиром.
Осадки с него стекают постоянно во впадины Земли в виде тумана, воды
и воздуха.
А мы, обитающие в её впадинах, об этом и не
догадываемся, но думаем, будто живем на самой поверхности Земли, все
равно как если бы кто, обитая на дне моря, воображал, будто живет на
поверхности, и, видя сквозь воду Солнце и звезды, море считал бы
небом. Из-за медлительности своей и слабости он никогда бы не достиг
поверхности, никогда бы не вынырнул и не поднял голову над водой,
чтобы увидеть, насколько чище и прекраснее здесь, у нас, чем в его
краях, и даже не услыхал бы об этом ни от кого другого, кто это
видел.
В таком же точно положении находимся и мы: мы
живем в одной из земных впадин, а думаем, будто находимся на
поверхности, и воздух зовем небом в уверенности, что в этом небе
движутся звезды. А все оттого, что, по слабости своей и
медлительности, мы не можем достигнуть крайнего рубежа воздуха. Но
если бы кто-нибудь все-таки добрался до края или же сделался
крылатым и взлетел ввысь, то, словно рыбы здесь, у нас, которые
высовывают головы из моря и видят этот наш мир, так же и он,
поднявши голову, увидел бы тамошний мир. И если бы по природе своей
он был способен вынести это зрелище, он узнал бы, что впервые видит
истинное небо, истинный свет и истинную Землю. А наша Земля, и её
камни, и все наши местности размыты и изъедены, точно морские утесы,
разъеденные солью. Ничто достойное внимания в море не родится,
ничто, можно сказать, не достигает совершенства, а где и есть земля
– там лишь растрескавшиеся скалы, песок, нескончаемый ил и грязь –
одним словом, там нет решительно ничего, что можно было бы сравнить
с красотами наших мест. И еще куда больше отличается, видимо, тот
мир от нашего! Если только уместно сейчас пересказывать миф, стоило
бы послушать, Симмий, каково то, что находится на Земле, под самыми
небесами.
– Ну, конечно, Сократ, – отвечал Симмий, – мы
были бы рады услышать этот миф.
– Итак, друг, рассказывают прежде всего, что та
Земля, если взглянуть на нее сверху, похожа на мяч, сшитый из
двенадцати кусков кожи и пестро расписанный разными цветами. Краски,
которыми пользуются наши живописцы, могут служить образчиками этих
цветов, но там вся Земля играет такими красками, и даже куда более
яркими и чистыми. В одном месте она пурпурная и дивно прекрасная, в
другом золотистая, в третьем белая – белее снега и алебастра; и
остальные цвета, из которых она складывается, такие же, только там
их больше числом и они прекраснее всего, что мы видим здесь. И даже
самые ее впадины, хоть и наполненные водою и воздухом, окрашены
по-своему и ярко блещут пестротою красок, так что лик её
представляется единым, целостным и вместе нескончаемо разнообразным.
Вот какова она, и, подобные ей самой, вырастают
на ней деревья и цветы, созревают плоды, и горы сложены по ее
подобию, и камни – они гладкие, прозрачные и красивого цвета. Их
обломки – это те самые камешки, которые так ценим мы здесь: наши
сердолики, и яшмы, и смарагды, и все прочие подобного рода. А там
любой камень такой или еще лучше. Причиною этому то, что тамошние
камни чисты, неизъедены и неиспорчены – в отличие от наших, которые
разъедает гниль и соль из осадков, стекающих в наши впадины: они
приносят уродства и болезни камням и почве, животным и растениям.
Всеми этими красотами изукрашена та Земля, а еще
– золотом, и серебром, и прочими дорогими металлами. Они лежат на
виду, разбросанные повсюду в изобилии, и счастливы те, кому открыто
это зрелище.
Среди многих живых существ, которые ее населяют,
есть и люди: одни живут в глубине суши, другие – по краю воздуха,
как мы селимся по берегу моря; третьи – на островах, омываемых
воздухом, невдалеке от материка. Короче говоря, что для нас и для
нужд нашей жизни вода, море, то для них воздух, а что для нас
воздух, для них – эфир. Зной и прохлада так у них сочетаются, что
эти люди никогда не болеют и живут дольше нашего. И зрением, и
слухом, и разумом, и всем остальным они отличаются от нас настолько
же, несколько воздух отличен чистотою от воды или эфир – от воздуха.
Есть у них и храмы, и священные рощи богов, и боги действительно
обитают в этих святилищах и через знамения, вещания, видения
общаются с людьми. И люди видят Солнце, и Луну, и звезды такими,
каковы они на самом деле. И спутник всего этого – полное блаженство.
Такова природа той Земли в целом и того, что ее
окружает. Но во впадинах по всей Земле есть много мест, то еще более
глубоких и открытых, чем впадина, в которой живем мы, то хоть и
глубоких, но со входом более тесным, чем зев нашей впадины. А есть и
менее глубокие, но более пространные. Все они связаны друг с другом
подземными ходами разной ширины, идущими в разных направлениях, так
что обильные воды переливаются из одних впадин в другие, словно из
чаши в чашу, и под землею текут неиссякающие, невероятной ширины
реки – горячие и холодные. И огонь под землею в изобилии, и струятся
громадные огненные реки и реки мокрой грязи, где более густой, где
более жидкой, вроде грязевых потоков в Сицилии, какие бывают перед
извержением лавы, или вроде самой лавы. Эти реки заполняют каждое из
углублений, и каждая из них в свою очередь всякий раз принимает все
новые потоки воды или огня, которые движутся то вверх, то вниз,
словно какое-то колебание происходит в недрах. Природа этого
колебания вот примерно какая. Один из зевов Земли – самый большой из
всех; там начало пропасти, пронизывающей Землю насквозь, и об этом
упоминает Гомер, говоря
Пропасть далекая, где под землей глубочайшая
бездна.
И сам Гомер в другом месте, и многие другие поэты
называют ее Тартаром. В эту пропасть стекают все реки, и в ней снова
берут начало, и каждая приобретает свойства земли, по которой течет.
Причина, по какой все они вытекают из Тартара и туда же впадают, в
том, что у всей этой влаги нет ни дна, ни основания и она колеблется
– вздымается и опускается, а вместе с нею и окутывающие ее воздух и
ветер: они следуют за влагой, куда бы она ни двинулась, – в дальний
ли конец той Земли или в ближний. И как при дыхании воздух все время
течет то в одном, то в другом направлении, так и там ветер
колеблется вместе с влагой и то врывается в какое-нибудь место, то
вырывается из него, вызывая чудовищной силы вихри.
Когда вода отступает в ту область, которую мы
зовем нижнею, она течет сквозь землю по руслам тамошних рек и
наполняет их, словно оросительные канавы; а когда уходит оттуда и
устремляется сюда, то снова наполняет здешние реки, и они бегут
подземными протоками, каждая к тому месту, куда проложила себе путь,
и образуют моря и озера, дают начала рекам и ключам. А потом они
снова исчезают в глубине той Земли и возвращаются в Тартар: иная –
более долгой дорогою, через многие и отдаленные края, иная – более
короткой. И всегда устье лежит ниже истока: иногда гораздо ниже
высоты, на какую вода поднималась при разливе, иногда ненамного.
Иной раз исток и устье на противоположных сторонах, а иной раз – по
одну сторону от середины той Земли. А есть и такие потоки, что
описывают полный круг, обвившись вокруг той Земли кольцом или даже
несколькими кольцами, точно змеи; они спускаются в самую большую
глубину, какая только возможна, но впадают все в тот же Тартар.
Спуститься же в любом из направлений можно только до середины Земли,
но не дальше: ведь откуда бы ни текла река, с обеих сторон от
середины местность для нее пойдет круто вверх.
Этих рек многое множество, они велики и
разнообразны, но особо примечательны среди них четыре. Самая большая
из всех и самая далекая от середины течет по кругу; она зовется
Океаном. Навстречу ей, но по другую сторону от центра течет Ахеронт.
Он течет по многим пустынным местностям, главным образом под землей,
и заканчивается озером Ахерусиадой. Туда приходят души большинства
умерших и, пробыв назначенный судьбою срок – какая больший, какая
меньший, – отсылаются назад, чтобы снова перейти в породу живых
существ.
Третья река берет начало между двумя первыми и
вскоре достигает обширного места, пылающего жарким огнем, и образует
озеро, где бурлит вода с илом, размерами больше нашего моря. Дальше
она бежит по кругу, мутная и илистая, опоясывая ту Землю, и подходит
вплотную к краю озера Ахерусиады, но не смешивается с его водами.
Описав под землею еще много кругов, она впадает в нижнюю часть
Тартара. Имя этой реки – Пирифлегетонт, и она изрыгает наружу брызги
своей лавы повсюду, где коснется земной поверхности.
В противоположном от неё направлении берет начало
четвертая река, которая сперва течет по местам, как говорят, диким и
страшным, иссиня-черного цвета; их называют Стигийскою страной, и
озеро, которое образует река, зовётся Стикс. Впадая в него, воды
реки приобретают грозную силу и катятся под землею дальше, описывая
круг в направлении, обратном Пирифлегетонту, и подступают к озеру
Ахерусиаде с противоположного края. Они тоже нигде не смешиваются с
чужими водами и тоже, опоясав землю кольцом, вливаются в Тартар –
напротив Пирифлегетонта. Имя этой реки, по словам поэтов, Кокит.
Вот как всё это устроено.
Когда умершие являются в то место, куда уводит
каждого его гений, первым делом надо всеми чинится суд – и над теми,
кто прожил жизнь прекрасно и благочестиво, и над теми, кто жил
иначе. О ком решат, что они держались середины, те отправляются к
Ахеронту – всходят на ладьи, которые их ждут, и на них приплывают на
озеро. Там они обитают и, очищаясь от провинностей, какие кто
совершал при жизни, несут наказания и получают освобождение от вины,
а за добрые дела получают воздаяния – каждый по заслугам.
Тех, кого по тяжести преступлений сочтут
неисправимыми (это либо святотатцы, часто и помногу грабившие в
храмах, либо убийцы, многих погубившие вопреки справедливости и
закону, либо иные схожие с ними злодеи), – тех подобающая им судьба
низвергает в Тартар, откуда им уже никогда не выйти.
А если о ком решат, что они совершили
преступления тяжкие, но все же искупимые – например, в гневе подняли
руку на отца или на мать, а потом раскаивались всю жизнь, либо стали
убийцами при сходных обстоятельствах, – те, хотя и должны быть
ввергнуты в Тартар, однако по прошествии года волны выносят
человекоубийц в Кокит, а отцеубийц и матереубийц – в Пирифлегетонт.
И когда они оказываются близ берегов озера Ахерусиады, они кричат и
зовут, одни – тех кого убили, другие – тех, кому нанесли обиду, и
молят, заклинают, чтобы они позволили им выйти к озеру и приняли их.
И если те склонятся на их мольбы, они выходят, и бедствиям их
настает конец, а если нет – их снова уносит в Тартар, а оттуда – в
реки, и так они страдают до тех пор, пока не вымолят прощения у
своих жертв: в этом состоит их кара, назначенная судьями.
И наконец, те, о ком решат, что они прожили жизнь
особенно свято: их освобождают и избавляют от заключения в земных
недрах, и они приходят в страну вышней чистоты, находящуюся над той
Землею, и там поселяются. Те из их числа, кто благодаря философии
очистился полностью, впредь живут совершенно бестелесно и прибывают
в обиталища ещё более прекрасные, о которых, однако же, поведать
нелегко да и времени у нас в обрез.
И вот ради всего, о чем мы сейчас говорили,
Симмий, мы должны употребить все усилия, чтобы приобщиться, пока мы
живы, к добродетели и разуму, ибо прекрасна награда и надежда
велика!
Правда, человеку здравомыслящему не годится
утверждать с упорством, будто все обстоит именно так, как я
рассказал. Но что такая или примерно такая участь и такие жилища
уготованы нашим душам – коль скоро мы находим душу бессмертной, –
утверждать, по-моему, следует, и вполне решительно. Такая решимость
и достойна, и прекрасна – с ее помощью мы словно бы зачаровываем
самих себя. Вот почему я так пространно и подробно пересказываю это
предание.
Но опять-таки в силу того, о чем мы сейчас
говорили, нечего тревожиться за свою душу человеку, который в
течение целой жизни пренебрегал всеми телесными удовольствиями, и в
частности украшениями и нарядами, считал их чуждыми себе и
приносящими скорее вред, нежели пользу, который гнался за иными
радостями, радостями познания, и, украсив душу не чужими, но
доподлинно ее украшениями – воздержностью, справедливостью,
мужеством, свободою, истиной, ожидает странствия в Аид, готовый
пуститься в путь, как только позовет судьба.
Вы, Симмий, Кебет и все остальные, тоже
отправитесь этим путем, каждый в свой час, а меня уже нынче
"призывает судьба" – так, вероятно, выразился бы какой-нибудь герой
из трагедии. Ну, пора мне, пожалуй, и мыться: я думаю, лучше выпить
яд после мытья и избавить женщин от лишних хлопот – не надо будет
обмывать мертвое тело.
Тут заговорил Критон.
– Хорошо, Сократ, – промолвил он, – но не хочешь
ли оставить им или мне какие-нибудь распоряжения насчет детей или
ещё чего-нибудь? Мы бы с величайшею охотой сослужили тебе любую
службу.
– Ничего нового я не скажу, Критон, – отвечал,
Сократ, – только то, что говорил всегда: думайте и пекитесь о себе
самих, и тогда, что бы вы ни делали, это будет доброю службой и мне,
и моим близким, и вам самим, хотя бы вы сейчас ничего и не обещали.
А если вы не будете думать о себе и не захотите жить в согласии с
тем, о чем мы толковали сегодня и в прошлые времена, вы ничего не
достигнете, сколько бы самых горячих обещаний вы сейчас ни надавали.
– Да, Сократ, – сказал Критон, – мы постараемся
исполнить всё, как ты велишь. А как нам тебя похоронить?
– Как угодно, – отвечал Сократ, – если, конечно,
сумеете меня схватить и я не убегу от вас.
Он тихо засмеялся и, обернувшись к нам,
продолжал:
– Никак мне, друзья, не убедить Критона, что я –
это только тот Сократ, который сейчас беседует с вами и пока еще
распоряжается каждым своим словом. Он воображает, будто я – это тот,
кого он вскорости увидит мертвым, и вот спрашивает, как меня
хоронить! А весь этот длинный разговор о том, что, выпив яду, я уже
с вами не останусь, но отойду в счастливые края блаженных, кажется
ему пустыми словами, которыми я хотел утешить вас, а заодно и себя.
Так поручитесь же за меня перед Критоном, только дайте ручательство,
обратное тому, каким сам он ручался перед судьями: он-то ручался,
что я останусь на месте, а вы поручитесь, что не останусь, но
удалюсь отсюда, как только умру. Тогда Критону будет легче, и, видя,
как мое тело сжигают или зарывают в землю, он уже не станет
негодовать и убиваться, воображая, будто я терплю что-то ужасное, и
не будет говорить на похоронах, что кладет Сократа на погребальное
ложе, или выносит, или зарывает. Запомни хорошенько, мой дорогой
Критон: когда ты говоришь неправильно, это не только само по себе
скверно, но и душе причиняет зло. Так не теряй мужества и говори,
что хоронишь мое тело, а хорони как тебе заблагорассудится и как, по
твоему мнению, требует обычай.
С этими словами он поднялся и ушел в другую
комнату мыться. Критон пошел следом за ним, а нам велел ждать. И мы
ждали, переговариваясь и раздумывая о том, что услышали, но все
снова и снова возвращались к мысли, какая постигла нас беда: мы
словно лишались отца и на всю жизнь оставались сиротами. Когда
Сократ помылся, к нему привели сыновей – у него было двое маленьких
и один побольше; пришли и родственницы, и Сократ сказал женщинам
несколько слов в присутствии Критона и о чем-то распорядился, а
потом велел женщинам с детьми возвращаться домой, а сам снова вышел
к нам.
Было уже близко к закату: Сократ провел во
внутренней комнате много времени. Вернувшись после мытья, он сел и
уже больше почти не разговаривал с нами. Появился прислужник
Одиннадцати и, ставши против Сократа, сказал:
– Сократ, мне, видно, не придется жаловаться на
тебя, как обычно на других, которые бушуют и проклинают меня, когда
я по приказу властей объявляю им, что пора пить яд. Я уж и раньше за
это время убедился, что ты самый благородный, самый смирный и самый
лучший из людей, какие когда-нибудь сюда попадали. И теперь я
уверен, что ты не гневаешься на меня. Ведь ты знаешь виновников и на
них, конечно, и гневаешься. Ясное дело, тебе уже понятно, с какой
вестью я пришел. Итак, прощай и постарайся как можно легче перенести
неизбежное.
Тут он заплакал и повернулся к выходу. Сократ
взглянул на него и промолвил:
– Прощай и ты. А мы все исполним как надо. –
Потом, обратившись к нам, продолжал: – Какой обходительный человек!
Он все это время навещал меня, а иногда и беседовал со мною, просто
замечательный человек! Вот и теперь, как искренне он меня
оплакивает. Однако ж, Критон, послушаемся его – пусть принесут яд,
если уже стерли. А если нет, пусть сотрут.
А Критон в ответ:
– Но ведь солнце, по-моему, еще над горами,
Сократ, еще не закатилось. А я знаю, что другие принимали отраву
много спустя после того, как им прикажут, ужинали, пили вволю, а
иные даже наслаждались любовью, с кем кто хотел. Так что не
торопись, время еще терпит.
А Сократ ему:
– Вполне понятно, Критон, что они так поступают,
– те, о ком ты говоришь. Ведь они думают, будто этим что-то
выгадывают. И не менее понятно, что я так не поступаю. Я ведь не
надеюсь выгадать ничего, если выпью яд чуть попозже, и только
сделаюсь смешон самому себе, цепляясь за жизнь и дрожа над
последними ее остатками. Нет, нет, не спорь со мною и делай, как я
говорю.
Тогда Критон кивнул рабу, стоявшему неподалеку.
Раб удалился, и его не было довольно долго; потом он вернулся, а
вместе с ним вошел человек, который держал в руке чашу со стертым
ядом, чтобы поднести Сократу.
Увидев этого человека, Сократ сказал:
– Вот и прекрасно, любезный. Ты со всем этим
знаком – что же мне надо делать?
– Да ничего, – отвечал тот, – просто выпей и ходи
тех пор, пока не появится тяжесть в ногах, а тогда ляг. Оно
подействует само.
С этими словами он протянул Сократу чашу. И
Сократ взял ее с полным спокойствием, Эхекрат, – не дрожал, не
побледнел, не изменился в лице, но, по всегдашней своей привычке,
взглянул на того чуть исподлобья и спросил:
– Как, по-твоему, этим напитком можно сделать
возлияние кому-нибудь из богов или нет?
– Мы стираем ровно столько, Сократ, сколько надо
выпить.
– Понимаю, – сказал Сократ. – Но молиться богам и
можно и нужно – о том, чтобы переселение из этого мира в иной было
удачным. Об этом я и молю, и да будет так.
Договорив эти слова, он поднес чашу к губам и
выпил до дна – спокойно и легко.
До сих пор большинство из нас еще как-то
удерживалось от слез, но, увидев, как он пьет и как он выпил яд, мы
уже не могли сдержать себя. У меня самого, как я ни крепился, слезы
лились ручьем. Я закрылся плащом и оплакивал самого себя – да! не
его я оплакивал, но собственное горе – потерю такого друга! Критон
еще раньше моего разразился слезами и поднялся с места. А Аполлодор,
который и до того плакал не переставая, тут зарыдал и заголосил с
таким отчаянием, что всем надорвал душу, всем, кроме Сократа. А
Сократ промолвил:
– Ну что вы, что вы, чудаки! Я для того главным
образом и отослал отсюда женщин, чтобы они не устроили подобного
бесчинства, – ведь меня учили, что умирать должно в благоговейном
молчании. Тише, сдержите себя!
И мы застыдились и перестали плакать.
Сократ сперва ходил, потом сказал, что ноги
тяжелеют, и лег на спину: так велел тот человек. Когда Сократ лег,
он ощупал ему ступни и голени и немного погодя – еще раз. Потом
сильно стиснул ему ступню спросил, чувствует ли он. Сократ отвечал,
что нет. после этого он снова ощупал ему голени и, понемногу ведя
руку вверх, показывал нам, как тело стынет и коченеет. Наконец
прикоснулся в последний раз и сказал, что когда холод подступит к
сердцу, он отойдет.
Холод добрался уже до живота, и тут Сократ
раскрылся – он лежал, закутавшись, – и сказал (это были его
последние слова):
– Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте
же, не забудьте.
– Непременно, – отозвался Критон. – Не хочешь ли
ещё что-нибудь сказать?
Но на этот вопрос ответа уже не было. Немного
спустя он вздрогнул, и служитель открыл ему лицо: взгляд Сократа
остановился. Увидев это, Критон закрыл ему рот и глаза.
Таков, Эхекрат, был конец нашего друга, человека
– мы вправе это сказать – самого лучшего из всех, кого нам довелось
узнать на нашем веку, да и вообще самого разумного и самого
справедливого.