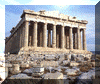Перевод Т.В.Васильевой.
В кн.: Платон. С. с. в 4-х т. Т2. М.: "Мысль", 1993
ТЕЭТЕТ
(Евклид,
Терпсион, Сократ, Феодор, Теэтет)
Евклид. Ты только что из деревни, Терпсион,
или уже давно?
Терпсион. Пожалуй, давно. А ведь я тебя
искал на площади и все удивлялся, что не мог найти.
Евклид. Меня не было в городе.
Терпсион. А где же ты был?
Евклид. Я заходил в гавань, туда как раз
привезли Теэтета по пути из Коринфскою лагеря в Афины.
Терпсион. Привезли? Живого или мертвого?
Евклид. Живого, но еле-еле. Он очень плох
– и от многих ран, и еще больше оттого, что его сломила эта новая
болезнь, вспыхнувшая в войске.
Терпсион. Уж не дизентерия ли?
Евклид. Да.
Терпсион. Что ты говоришь? Какой человек
под угрозой!
Евклид. Безупречный человек, Терпсион. Вот
и сейчас я только что слышал, как многие высоко превозносили его
военные доблести.
Терпсион. Ничего странного, было бы
гораздо удивительнее, если бы он был не таков. Но что же он с не
остановился здесь, в Мегарах?
Евклид. Он торопился домой. Я-то уж,
разумеется, и просил его и увещевал всячески, но он не захотел. И
вот, уже проводив его и возвращаясь назад, я вспомнил и удивился,
как пророчески говорил Сократ кроме всего прочего и об этом
человеке. Кажется, незадолго до своей смерти Сократу случилось
встретиться с ним, тогда еще подростком; так вот, общаясь и беседуя
с ним, он приходил в большой восторг от его одаренности. Когда я был
в Афинах, Сократ слово в слово передал мне а те беседы, которые он
вел с ним, – весьма достойные внимания – и, между прочим, сказал,
что, судя по всему, этот мальчик непременно прославится, коли
достигнет зрелого возраста.
Терпсион. Он был прав, как видно. Однако
что это были за беседы? Ты не мог бы их пересказать?
Евклид. Так вот, наизусть, клянусь Зевсом,
конечно, нет. Но я записал все это по памяти тогда же, сразу из по
приезде домой. Впоследствии, вспоминая на досуге что-то еще, я
вписывал это в книгу, и к тому же всякий раз, бывая в Афинах, я
снова спрашивал у Сократа то, чего не помнил, а дома исправлял. Так
что у меня теперь записан почти весь этот разговор.
Терпсион. Да, я уже и прежде слышал это от
тебя и, признаюсь, всегда задерживался здесь именно с намерением
попросить тебя показать эти записи. Послушай, а что мешает нам
проделать это теперь? Я пришел из деревни и как раз мог бы
отдохнуть.
Евклид. Да ведь и я проводил Теэтета до
самого Эрина, так что тоже отдохнул бы не без удовольствия. Однако
пойдем, и, пока мы будем отдыхать, этот вот мальчик нам почитает.
Терпсион. Правильно.
Евклид. Вот эта рукопись, Терпсион. Весь
разговор я записал не так, будто Сократ мне его пересказывает, а
так, как если бы он сам разговаривал с тем, кто был при этой беседе.
По его словам, это были геометр Феодор и Теэтет. А чтобы в записи не
мешали такие . разъяснения, как: "а я заметил" или "на это я
сказал", – когда говорит Сократ, либо о собеседнике: "он подтвердил"
или "он не согласился", – я написал так, будто они просто беседуют
сами между собой, а всякие подобные пометки убрал.
Терпсион. Да, так это и делается, Евклид.
Евклид. Ну, мальчик, возьми книгу и читай.
Сократ. Если бы меня особенно заботила
Кирена , Феодор, я бы расспросил тебя и о ней и о ее жителях,
.например есть ли там среди юношей кто-нибудь, кто бы ревностно
предавался геометрии или какой-нибудь другой премудрости. Но я люблю
их меньше, чем вот этих, и более желал бы знать, какие юноши здесь у
нас подают надежды. Я и сам слежу за этим, сколько могу, и спрашиваю
у других, с кем, как я вижу, молодые люди охотно общаются. А ведь к
тебе далеко не мало их приходит, да это и справедливо: кроме прочих
достоинств их привлекает твоя геометрия. И я узнал бы с
удовольствием, не попадался ли тебе кто-то заслуживающий внимания.
Феодор. Да, Сократ, мне не стыдно сказать,
а тебе, я думаю, услышать, какого подростка встретил я среди ваших
граждан. И если бы он был хорош собой, то я, пожалуй, побоялся бы
говорить слишком пылко, чтобы не показалось, будто я неравнодушен к
нему: нет, в самом деле, не укоряй меня – он но те чтобы прекрасной
наружности и скорее даже похож на тебя своим вздернутым носом и
глазами навыкате, разве что черты эти у него не так выражены.
Поэтому я говорю без страха. Знай же, что из всех, кого я когда-либо
встречал – а приходили ко мне многие, – ни в ком не замечал я таких
удивительно счастливых задатков. С легкостью усваивать то, что иному
трудно, а с другой стороны, быть кротким, не уступая вместе с тем
никому в мужестве, – я не думал, что такое вообще может случаться,
да и не вижу таких людей. Действительно, в ком столь же остры ум,
сообразительность и память, как у этого юноши, те по большей части
впечатлительны и норовисты, они носятся стремительно, как порожние
триеры, и по природе своей скорее неистовы, чем мужественны; а более
уравновешенные, те как-то вяло подходят к учению, их отягощает
забывчивость. Этот же подходит к учению и любому исследованию легко,
плавно и верно, так спокойно, словно бесшумно вытекающее масло, – и
я удивляюсь, как в таком возрасте можно этого достичь.
Сократ. Отрадно слышать. У кого же из
граждан такой сын?
Феодор. Имя-то я слышал, да не помню. Но
вот с подходят юноши – средний, я вижу, как раз наш, а с ним его
товарищи – только что они вместе натирались маслом там, в портике, а
теперь, натеревшись, они, по-моему, идут сюда. Посмотри же, не
узнаешь ли ты его.
Сократ. Узнаю. Это сын сунийца Евфрония,
человека как раз такого, друг мой, каким ты описал мне этого юношу;
к тому же тот был человек весьма уважаемый и оставил очень большое
состояние. А вот имени мальчика я не знаю.
Феодор. Его зовут Теэтет, Сократ! Что же
до состояния, то, кажется, его расстроили всевозможные опекуны.
Впрочем, щедрость и благородство в денежных делах – также одно из
удивительных свойств этого юноши.
Сократ. Судя по твоим словам, это
благородный человек. Вели ему присесть здесь с нами.
Феодор. Будь по-твоему. Теэтет, подойди-ка
сюда, к Сократу.
Сократ. Это для того, Теэтет, чтобы я мог
разглядеть самого себя – что за лицо у меня. Дело в том, что Феодор
говорит, будто я на тебя похож. Впрочем, если бы у нас с тобой в
руках были лиры, а он бы сказал, что они одинаково настроены, то
поверили бы мы ему сразу же или еще посмотрели бы, знает ли он
музыку, чтобы так говорить?
Теэтет. Посмотрели бы.
Сократ. И если бы нашли, что знает, то
поверили бы? А если бы нашли, что к Музам он не причастен, то нет?
Теэтет. Верно.
Сократ. Так и теперь, полагаю, если
подобие лиц хоть сколько-нибудь нас занимает, следует посмотреть,
живописец ли тот, кто это утверждает, или нет Теэтет. По-моему, да.
Сократ. А Феодор – живописец?
Теэтет. Нет, насколько я знаю.
Сократ. И не геометр?
Теэтет. Как раз геометр, Сократ.
Сократ. И знает астрономию, счет, музыку и
все то, что нужно для образования?
Теэтет. Мне кажется, да.
Сократ. Значит, если он утверждает, что мы
схожи какими-то свойствами тела, – в похвалу ли он это говорит или в
порицание, – то вовсе не стоит принимать это во внимание.
Теэтет. Пожалуй, нет.
Сократ. А если он чью-то душу похвалит за
добродетель и мудрость? Не стоит ли его слушателю приглядеться к
тому, кого он похвалил, а последнему в свою очередь постараться
показать себя?
Теэтет. Конечно же стоит.
Сократ. В таком случае, любезный Теэтет,
самое время тебе показать себя, а мне – посмотреть, потому что,
признаюсь, Феодор многих хвалил мне и в нашем городе и в чужих
городах, но никого никогда не хвалил он так, как сегодня тебя.
Теэтет. Ах, если бы так! Но не в шутку ли
он это говорил, Сократ?
Сократ. Ну, это не похоже на Феодора.
Однако, хотя бы ты даже и подозревал, что он шутит, все же от своего
обещания теперь не отступай, чтобы не принуждать его к присяге, –
ведь его еще ни разу не уличили во лжесвидетельстве. Ты же смело
оставайся при своем решении.
Теэтет. Что же, придется так и сделать,
раз ты настаиваешь.
Сократ. Вот и скажи мне, ты учишься у
Феодора геометрии?
Теэтет. Я – да.
Сократ. И астрономии, и гармонии, и счету?
Теэтет. Стараюсь, по крайней мере.
Сократ. Вот и я тоже, мой мальчик,
стараюсь учиться и у него и у других, кого считаю знатоками таких
вещей. Что-то я уже знаю в достаточной мере, а вот одна малость
приводит меня в затруднение, и я хотел бы рассмотреть это вместе с
тобой и твоими друзьями. Вот скажи мне, учиться – это значит
становиться мудрее в том деле, которому учишься?
Теэтет. А разве нет?
Сократ. А мудрецы, я думаю, мудры
благодаря мудрости?
Теэтет. Да.
Сократ. А это отличается чем-то от знания?
Теэтет. Что именно?
Сократ. Мудрость. Разве мудрецы не знатоки
чего-то?
Теэтет. Что ты имеешь в виду?
Сократ. Одно ли и то же знание и мудрость?
Теэтет. Да.
Сократ. Вот это как раз и приводит меня в
затруднение, и я не вполне способен сам разобраться, что же такое
знание. Нет ли у вас желания потолковать об этом? Что скажете? Кто
из вас ответил бы первым? Если он ошибется – да и всякий, кто
ошибется, – пусть сидит на осле, как это называется у детей при игре
в мяч. А тот, кто победит, ни разу не ошибившись, тот будет нашим
царем и сможет задавать вопросы по своему усмотрению. Что же вы
молчите? Или я веду себя дико, Феодор? Так ведь сам я люблю беседу,
а потому и вас стараюсь заставить разговориться и получить
удовольствие от беседы друг с другом.
Феодор. Нет, Сократ. Вовсе не дико. Но
все-таки ты сам вели кому-нибудь из мальчиков отвечать тебе. Я-то к
такой беседе не привык и уже не в том возрасте, чтобы привыкать. А
им как раз следует преуспеть в этом и еще во многом другом. Ведь
правда, что молодым все дается. Поэтому, уж как ты начал с Теэтета,
так и не отпускай его и ему задавай свои вопросы. „
Сократ. Ты слышишь, Теэтет, что говорит Феодор?
Ослушаться его, я думаю, ты не захочешь. Нельзя ведь, с чтобы
младший не повиновался наставлениям мудрого мужа. Поэтому скажи
честно и благородно, что, по-твоему, есть знание?
Теэтет. Мне некуда деваться, Сократ, раз
уж вы велите отвечать. Но уж если я в чем ошибусь, вы меня
поправите.
Сократ. Разумеется, если только сможем.
Теэтет. Итак, мне кажется, что и то, чему
кто-то может научиться у Феодора, – геометрия и прочее, что ты
только что перечислял, – есть знания и, с другой стороны, ремесло
сапожника и других ремесленников – а все они и каждое из них есть не
что иное, как знание.
Сократ. Вот благородный и щедрый ответ,
друг мой! Спросили у тебя одну вещь, а ты даешь мне много
замысловатых вещей вместо одной простой.
Теэтет. Что ты хочешь этим сказать,
Сократ?
Сократ. Может статься, и ничего, но все же
я попытаюсь разъяснить, что я думаю. Когда ты называешь сапожное
ремесло, ты имеешь в виду знание того, как изготовлять обувь?
Теэтет. Да, именно это.
Сократ. А когда ты называешь плотницкое
ремесло? Конечно, знание того, как изготовлять деревянную утварь?
Теэтет. Не что иное и в этом случае.
Сократ. А не определяешь ли ты в обоих
случаях то, о чем бывает знание?
Теэтет. Ну да.
Сократ. А ведь вопрос был не в том, о чем
бывает знание или сколько бывает знаний. Ведь мы задались этим
вопросом не с тем, чтобы пересчитать их, но чтобы узнать, что такое
знание само по себе. Или я говорю пустое?
Теэтет. Нет, ты совершенно прав.
Сократ. Взгляни же еще вот на что. Если бы
кто– и то спросил нас о самом простом и обыденном, например о глине
– что это такое, а мы бы ответили ему, что глина – это глина у
горшечников, и глина у печников, и глина у кирпичников, – разве не
было бы это смешно?
Теэтет. Пожалуй, да.
Сократ. И прежде всего потому, что мы
стали бы полагать, будто задавший вопрос что-то поймет из нашего
ответа: "Глина – это глина", стоит только нам добавить к этому:
"глина кукольного мастера" или какого угодно еще ремесленника. Или,
по-твоему, кто-то может понять имя чего-то, не зная, что это такое?
Теэтет. Никоим образом.
Сократ. Значит, он не поймет знания обуви,
не ведая, что такое знание [вообще]?
Теэтет. Выходит, что нет.
Сократ. Значит, и сапожного знания не
поймет тот, кому неизвестно знание? И все прочие искусства.
Теэтет. Так оно и есть.
Сократ. Стало быть, смешно в ответ на
вопрос, что есть знание, называть имя какого-то искусства. Ведь с
вопрос состоял не в том, о чем бывает знание.
Теэтет. По-видимому, так.
Сократ. Кроме того, там, где можно
ответить просто и коротко, проделывается бесконечный путь. Например,
на вопрос о глине можно просто и прямо сказать, что глина –
увлажненная водой земля, а уж у кого в руках находится глина – это
оставить в покое.
Теэтет. Теперь, Сократ, это кажется совсем
легким. И я даже подозреваю, что ты спрашиваешь о том, к чему мы
сами накануне пришли в разговоре, – я и вот этот Сократ, твой тезка.
Сократ. Что же это такое, Теэтет?
Теэтет. Вот Феодор объяснял нам на
чертежах нечто о сторонах квадрата, [площадь которого выражена
продолговатым числом], налагая их на трехфутовый и пятифутовый
[отрезки] соответственно и доказывая, что по длине они несоизмеримы
с однофутовым [отрезком]; и так перебирая [эти отрезки] один за
другим, он дошел до семнадцатифутового. Тут его что-то остановило.
Поскольку такого рода отрезков оказалось бесчисленное множество, нам
пришло в голову попытаться найти какое-то их единое [свойство], с
помощью с которого мы могли бы охарактеризовать их все.
Сократ. Ну, и нашли вы что-нибудь
подобное?
Теэтет. Мне кажется, нашли. Взгляни же и
ты.
Сократ. Говори, говори.
Теэтет. Весь [ряд] чисел разделили мы
надвое: одни числа можно получить, взяв какое-то число равное ему
число раз. Уподобив это равностороннему четырехугольнику, мы назвали
такие числа равносторонними и четырехугольными.
Сократ. Превосходно.
Теэтет. Другие числа стоят между первыми,
например три, пять и всякое другое число, которое нельзя получить
таким способом, а лишь взяв большее число меньшее число раз или взяв
меньшее число большее число раз. Эти другие числа мы назвали
продолговатыми, представив большее и меньшее число как стороны
продолговатого четырехугольника.
Сократ. Прекрасно. А что же дальше?
Теэтет. Всякий отрезок, который при
построении на нем квадрата дает площадь, выраженную равносторонним
числом, мы назвали длиной, а всякий отрезок, который дает
разностороннее продолговатое число, мы назвали [несоизмеримой с
единицей] стороной квадрата, потому что такие отрезки соизмеримы
первым не по длине, а лишь по площадям, которые они образуют. То же
и для объемных тел.
Сократ. Выше всяких похвал, дети мои. Так
что, я полагаю, Феодор не попадет под закон о лжесвидетельстве.
Теэтет. И все же, Сократ, на твой вопрос о
знании я не смог бы ответить так же, как о стороне и диагонали
квадрата, хотя мне и кажется, что ты ищешь нечто подобное. И поэтому
Феодор все-таки оказывается лжецом.
Сократ. Что же получается? Если бы,
похвалив с тебя за быстроту в беге, кто-то сказал, что не встречал
никого столь же быстрого среди юношей, а ты бы в состязании уступил
другому бегуну, в расцвете сил и более резвому, – то скажи, разве
меньше правды стало бы в его похвалах?
Теэтет. Не думаю.
Сократ. А исследовать знание, как я только
что здесь говорил, – это, по-твоему, пустяк и не относится к самым
высоким предметам?
Теэтет. Клянусь Зевсом, я думаю, что к
высочайшим.
Сократ. А поэтому возьми на себя смелость
и не думай, что для слов Феодора не было оснований. Лучше постарайся
всеми возможными способами добраться прежде всего до смысла самого
знания – что же это такое.
Теэтет. Если бы дело было в одном
старании, Сократ!
Сократ. Итак, вперед! Ведь только что ты
прекрасно повел нас. Попытайся же и множество знаний выразить в
одном определении, подобно тому как, отвечая на вопрос о
[несоизмеримых с единицей] сторонах квадрата, ты все их многообразие
свел к одному общему виду.
Теэтет. Признаюсь, Сократ, до меня
доходили те вопросы, что ты задаешь, и я не раз принимался это
рассматривать, но ни сам я никогда еще не был удовлетворен своим
ответом, ни от других не слышал такого истолкования, какого ты
требуешь. Правда, я еще не потерял надежды.
Сократ. Твои муки происходят оттого, что
ты не пуст, милый Теэтет, а скорее тяжел.
Теэтет. Не знаю, Сократ. Но я рассказываю
о том, что испытываю.
Сократ. Забавно слушать тебя. А не слыхал
ли ты, что я сын повитухи – очень опытной и строгой повитухи,
Фенареты?
Теэтет. Это я слышал.
Сократ. А не слышал ли ты, что и я
промышляю тем же ремеслом?
Теэтет. Нет, никогда.
Сократ. Знай же, что это так, но только не
выдавай меня никому. Ведь я, друг мой, это свое искусство скрываю. А
кто по неведению не разумеет этого, те рассказывают тем не менее,
что-де я вздорнейший человек и люблю всех людей ставить в тупик.
Приходилось тебе слышать такое? ,
Теэтет. Да.
Сократ. А сказать тебе причину?
Теэтет. Конечно.
Сократ. Поразмысли-ка, в чем состоит
ремесло повитухи, и тогда скорее постигнешь, чего я добиваюсь. Ты
ведь знаешь, что ни одна из них не принимает у других, пока сама еще
способна беременеть и рожать, а берется за это дело лишь тогда,
когда сама рожать уже не в силах.
Теэтет. Конечно.
Сократ. А виновницей этого называют
Артемиду , поскольку она, сама не рожая, стала помощницей родов. с
Однако нерожавшим она не позволила принимать, ибо человеку не под
силу преуспеть в искусстве, которое ему чуждо. Поэтому повитухами
она сделала женщин, неплодных уже по возрасту, почтив таким образом
в них свое подобие.
Теэтет. Это правильно.
Сократ. А разве не правильно, что
распознавать беременных тоже должны не кто иные, как повитухи?
Теэтет. Разумеется, правильно.
Сократ. Притом повитухи дают зелья и знают
заговоры, могут возбуждать родовые муки или по желанию смягчать их,
а ту, что с трудом рожает, заставить родить, или если найдут нужным,
то выкинуть.
Теэтет. Это так.
Сократ. А ты не заметил за ними вот чего:
ведь они же и сватать горазды, поскольку умудрены в том, какой
женщине с каким мужем следует сойтись, чтобы родить наилучших детей.
Теэтет. Нет, я этого не знал.
Сократ. Тогда знай, что этим они гордятся
больше, чем отсечением пуповины. Ибо – заметь: будет ли, по– твоему,
это одно и то же искусство – выхаживать и собирать плоды земли и, с
другой стороны, знать, в какую землю какой саженец посадить или
какое семя посеять?
Теэтет. Бесспорно, одно и то же.
Сократ. А для женщины, друг мой, разные
будут ремесла повитухи и свахи?
Теэтет. Похоже, что нет.
Сократ. В том-то и дело. Однако у нас
часты случаи неправильного и неумелого сватовства мужчины и женщины,
имя которому сводничество. Вот из-за него-то повитухи, как особы
священные, избегают сватовства, опасаясь навлечь на себя вину, тогда
как, по существу, одним повитухам уместно и подобает сватать.
Теэтет. Очевидно.
Сократ. Таково ремесло повитухи, однако
моему делу оно уступает. Ибо женщинам не свойственно рожать иной раз
призраки, а иной раз истинное дитя, а вот это распознать было бы
нелегко. Если бы это случалось, то великая и прекрасная обязанность
– судить, истинный родился плод или нет, стала бы делом повитух. Или
ты не находишь?
Теэтет. Нахожу.
Сократ. В моем повивальном искусстве почти
все так же, как и у них, – отличие, пожалуй, лишь в том, что я
принимаю у мужей, а не у жен и принимаю роды души, а не плоти. Самое
же великое в нашем искусстве – то, что мы можем разными способами
допытываться, рождает ли мысль юноши ложный призрак или же истинный
и полноценный плод. К тому же и со мной получается то же, что с
повитухами: сам я в мудрости уже неплоден, и за что меня многие
порицали, – что-де я все выспрашиваю у других, а сам никаких ответов
никогда не даю, потому что сам никакой мудрости не ведаю, – это
правда. А причина вот в чем: бог понуждает меня принимать, роды же
мне воспрещает. Так что сам я не такой уж особенный мудрец, и самому
мне не а выпадала удача произвести на свет настоящий плод – плод
моей души. Те же, что приходят ко мне, поначалу кажутся мне иной раз
крайне невежественными, а все же по мере дальнейших посещений и они
с помощью бога удивительно преуспевают и на собственный и на
сторонний взгляд. И ясно, что от меня они ничему не могут научиться,
просто сами в себе они открывают много прекрасного, если, конечно,
имели, и производят его на свет. Повития же этого виновники – бог и
я. И вот откуда это видно: уже многие юноши по неведению сочли
виновниками всего этого самих себя и, исполнившись презрения ко мне,
то ли сами по себе, то ли по наущению других людей ушли от меня
раньше времени. И что же? Ушедши от меня, они и то, что еще у них
оставалось, выкинули, вступивши в дурные связи, и то, что я успел
принять и повить, погубили плохим воспитанием. Ложные призраки стали
они ценить выше истины, так что в конце концов оказались невеждами и
в собственных и в чужих глазах. Одним из них оказался Аристид, сын
Лисимаха, было и много других. Когда же они возвращались обратно и
вновь просили принять их, стараясь изо всех сил, то некоторым мой
гении запрещал приходить, иным же позволял, и те опять делали
успехи. Еще нечто общее с роженицами испытывают они в моем
присутствии: днями и ночами они страдают от родов и не могут
разрешиться даже в большей мере, чем те, – а мое искусство имеет
силу возбуждать или останавливать эти муки. Так я с ними и поступаю.
Но иногда, Теэтет, если я не нахожу в них каких-либо признаков
беременности, то, зная, что во мне они ничуть не нуждаются, я из
лучших побуждений стараюсь сосватать их с кем-то и, с помощью бога,
довольно точно угадываю, от кого бы они могли понести. Многих таких
юношей я отдал Продику, многих – другим мужам, мудрым и
боговдохновенным.
Потому, славный юноша, так подробно я все это
тебе рассказываю, что ты, как я подозреваю, – вот и он того же
мнения – страдаешь, вынашивая что-то в себе. Доверься же мне как
сыну повитухи, который и сам владеет с этим искусством, и, насколько
способен, постарайся ответить на мои вопросы. И если, приглядываясь
к твоим рассуждениям, я сочту что-то ложным призраком, изыму это и
выброшу, то не свирепей, пожалуйста, как роженицы из-за своих
первенцев. Дело в том, дорогой мой, что многие уже и так на меня
взъярялись и прямо кусаться были готовы, когда я изымал у них
какой-нибудь вздор. Им даже в голову не приходило, что я это делаю
из самых добрых чувств. Они не ведают, что ни один бог не замышляет
людям зла, да и я ничего не делаю злонамеренно, просто я не вправе
уступать лжи и утаивать истинное. Поэтому давай уж, Теэтет, еще раз
попытайся разобраться, что же такое есть знание. А что-де ты не
способен, этого никогда не говори. Ведь если угодно будет богу и
если ты сам соберешься с духом, то окажешься способен.
Теэтет. Конечно, Сократ, раз уж ты
приказываешь, стыдно не приложить всех стараний и не высказать, кто
что думает. По-моему, знающий что-то ощущает то, что знает, и, как
мне теперь кажется, знание – это не что иное, как ощущение.
Сократ. Честно и благородно, мой мальчик.
Так и следует делать – говорить то, что думаешь. Однако давай вместе
разберемся, подлинное что-то родилось или же пустой призрак. Итак,
ты говоришь, что знание есть ощущение?
Теэтет. Да.
Сократ. Я подозреваю, что ты нашел
неплохое толкование знания. Однако так же толковал это и Протагор.
Другим, правда, путем он нашел то же самое. Ведь у него где-то
сказано: "Мера всех вещей – человек, существующих, что они
существуют, а несуществующих, что они не существуют". Ты ведь это
читал когда-нибудь?
Теэтет. Читал, и не один раз.
Сократ. Так вот, он говорит тем самым,
что-де какой мне кажется каждая вещь, такова она для меня и есть, а
какой тебе, такова же она в свою очередь для тебя. Ведь человек –
это ты или я, не так ли?
Теэтет. Да, он толкует это так.
Знание не есть чувственное восприятие
Сократ. А мудрому мужу, разумеется, не
подобает болтать вздор. Так что последуем за ним. Разве не бывает
иной раз, что дует один и тот же ветер, а кто-то мерзнет при этом,
кто-то – нет? И кто-то не слишком, а кто-то – сильно?
Теэтет. Еще как!
Сократ. Так скажем ли мы, что ветер сам по
себе холодный или нет, или поверим Протагору, что для мерзнущего он
холодный, а для не мерзнущего – нет?
Теэтет. Приходится поверить.
Сократ. Ведь это каждому так кажется?
Теэтет. Да.
Сократ. А "кажется" – это и значит
ощущать?
Теэтет. Именно так. с
Сократ. Стало быть, то, что кажется, и
ощущение – одно и то же, во всяком случае когда дело касается тепла
и тому подобного. Каким каждый человек ощущает нечто, таким, скорее
всего, оно и будет для каждого.
Теэтет. Видимо, так.
Сократ. Выходит, ощущение – это всегда
ощущение бытия, и как знание оно непогрешимо.
Теэтет. Очевидно.
Сократ. Тогда, клянусь Харитами, Протагор
был премудр и эти загадочные слова бросил нам, всякому сброду,
ученикам же своим втайне рассказал истину. а
Теэтет. Как тебя понять, Сократ?
Сократ. Я поведаю тебе это рассуждение,
оно немаловажно: [Протагор утверждает], будто ничто само по себе не
есть одно, ибо тут не скажешь ни что оно есть, ни каково оно; ведь
если ты назовешь это большим, оно может показаться и малым, если
назовешь тяжелым – легким и так далее, поскольку ничто одно не
существует как что-то или как какое-то, но из порыва, движения и
смешения одного с другим возникают все те вещи, про которые мы
говорим, что они существуют, хотя и говорим неверно, ибо ничто
никогда не есть, но всегда становится. И в этом по очереди сходились
все мудрецы, кроме Парменида: и Протагор, и Гераклит, и Эмпедокл, а
из поэтов – величайшие в каждом роде поэзии: в комедии – Эпихарм, в
трагедии – Гомер, который, упоминая "...отца бессмертных Океана и
матерь Тефису", объявляет все порождением потока и движения. Или
тебе не кажется, что он так считает?
Теэтет. Мне кажется, так.
Сократ. А кто сумеет не стать посмешищем,
выступая против такого лагеря и такого военачальника, как Гомер?
Теэтет. Это нелегкое дело, Сократ.
Сократ. То-то же. К тому же это достаточно
подтверждают и вот такие признаки: впечатление существования и
становления производится движением, напротив, покой делает все
несуществующим и мертвым. Ведь тепло и огонь, который порождает и
упорядочивает все прочее, сам возникает из порыва и трения. Так же и
всякое движение вообще. Или происхождение огня не таково?
Теэтет. Разумеется, таково.
Сократ. И живые существа тоже рождаются из
движения?
Теэтет. Как же иначе?
Сократ. А если взять наше тело? Разве не
расстраивают его состояние покой и бездействие, тогда как упражнение
и движение – укрепляют?
Теэтет. Да.
Сократ. А душевное состояние? Разве душа
не укрепляется и не улучшается, обогащаясь науками во время
прилежного обучения, поскольку оно есть движение, – тогда как от
покоя, то есть от беспечности и нерадивости, и новому не обучается,
да и выученное забывает?
Теэтет. Еще как.
Сократ. Стало быть, движение, будь то в
душе или теле, благо, а покой – наоборот?
Теэтет. Видимо.
Сократ. Тогда я прибавлю еще безветрие и
затишье и тому подобное – то, что загнивает и гибнет от покоя и
сохраняется от противоположного. А в довершение всего я притяну сюда
еще и золотую цепь, которая, по словам Гомера, есть не что иное, как
Солнце. Он объясняет также, что, пока есть Солнце и круговое
движение, все существует и сохраняется и у богов и у людей. А если
бы вдруг это стало как вкопанное, то все вещи погибли бы и, как
говорится, все перевернулось бы вверх дном.
Теэтет. И мне кажется, Сократ, что он
объясняет это именно так, как ты его толкуешь.
Сократ. Итак, славный юноша, попробуй
уразуметь вот что. Прежде всего, что касается наших глаз: ведь то,
что ты называешь белым цветом, не есть что-то инородное, вне твоих
глаз, но ведь и в глазах его тоже нет, и ты не назначишь ему
какого-либо определенного места, ибо тогда, оказавшись как бы в
строю, оно пребывало бы на месте, а не оказывалось бы в становлении.
Теэтет. Как это?
Сократ. Будем исходить из того недавнего
рассуждения, что ничто не существуют само по себе как одно, – и
тогда черное, белое и любой другой цвет представится нам возникающим
благодаря тому, что глаз обращается на приближающееся движение, а
все то, что мы называем цветом, не есть ни обращающееся, ни предмет
обращения, – это нечто особое, возникающее посредине между тем и
другим. Или ты будешь настаивать, что каким тебе кажется каждый
цвет, таков же он и для собаки, и для любого другого живого
существа?
Теэтет. Клянусь Зевсом, я – нет.
Сократ. То-то. А другому человеку что бы
то ни было разве представляется таким же, как и тебе? Будешь ли ты
настаивать на этом или скорее признаешь, что и для тебя самого это
не будет всегда одним и тем же, поскольку сам ты не всегда
чувствуешь себя одинаково.
Теэтет. Я скорее склоняюсь ко второму, чем
к первому.
Сократ. Далее, если бы мы измерили или
потрогали что-то и оно оказалось бы большим, или белым, или теплым,
то, попав к кому-либо другому, оно не стало бы другим, во всяком
случае если бы само не изменилось. А с другой стороны, если бы то,
что мы измерили и потрогали, действительно было бы всем этим, то оно
не становилось бы другим от приближения другой вещи или от
каких-либо ее изменений, поскольку само не претерпело никаких
изменений. А вот мы, мои друг, принуждены делать какие-то чудные и
потешные утверждения с легкой руки Протагора и всех тех, кто заодно
с ним.
Теэтет. Что ты хочешь этим сказать? И к
чему это?
Сократ. Возьми небольшой пример и тогда
поймешь, чего я добиваюсь. Представь, что у нас есть шесть игральных
костей. Если мы к ним приложим еще четыре, то сможем сказать, что их
было в полтора раза больше, чем тех, что мы приложили, а если
прибавим двенадцать, то скажем, что их было вполовину меньше. Иные
же подсчеты здесь недопустимы. Или ты допустил бы?
Теэтет. Я– нет.
Сократ. Что же в таком случае? Если
Протагор или кто-нибудь другой спросит тебя, Теэтет, может ли .
что-то сделаться больше размером или числом и в то же время не
увеличиться, что ты ответишь?
Теэтет. Если бы нужно было ответить, как
сейчас мне это представляется, то я бы сказал, что не может. Но если
бы меня спросили об этом во время прежнего нашего рассуждения, то
тогда, стараясь не противоречить себе, я сказал бы, что может.
Сократ. Вот это чудесно, друг мой, клянусь
Герой! Однако если ты ответишь, что может, то получится, видимо,
почти по Еврипиду: язык наш не в чем упрекнуть, ну а вот сердце есть
в чем.
Теэтет. Правда.
Сократ. Дело в том, что если бы мы с тобой
были великими мудрецами, изведавшими все глубины сердца, и нам от
избытка премудрости оставалось бы только ловить друг друга на
софистических подвохах, то, сойдясь для такого поединка, мы могли бы
отражать одно рассуждение другим. На самом же деле, поскольку мы
люди простые, давай-ка прежде разберем предмет наших размышлений сам
по себе – все ли у нас согласуется между собой или же нет?
Теэтет. И я очень хотел бы этого.
Сократ. Вот и я тоже. А когда так, то
давай прежде всего спокойно – ведь в досуге у нас нет недостатка, –
не давая воли раздражению, в самом деле проверим самих себя: каковы
же эти наши внутренние видения? В первую очередь, я думаю, мы
договоримся, что ничто не становится ни больше, ни меньше, будь то
объемом или числом, пока оно остается равным самому себе. Не так ли?
Теэтет. Так.
Сократ. Во-вторых, то, к чему ничего не
прибавляли и от чего ничего не отнимали, никогда не увеличивается и
не уменьшается, но всегда остается равным себе.
Теэтет. Разумеется.
Сократ. Стало быть, в-третьих, мы примем,
что чего не было раньше и что появилось уже позднее, то не может
существовать, минуя возникновение и становление?
Теэтет. По крайней мере, это
представляется так.
Сократ. Вот эти три допущения и
сталкиваются друг с другом в нашей душе, когда мы толкуем об
игральных костях или когда говорим, что я в своем возрасте, когда
уже не растут ни вверх ни вниз, в какой-то год то был выше тебя, то
вскоре стал ниже, причем от моего , роста ничего не убавилось,
просто ты вырос. Ведь получается, что я стал позже тем, чем не был
раньше, пропустив становление. А поскольку нельзя стать не
становясь, то, не потеряв ничего от своего роста, я не смог бы стать
меньше. И с тысячью тысяч прочих вещей дело обстоит так же, коль
скоро мы примем эти допущения. Ты успеваешь за мной, Теэтет? Мне
сдается, ты не новичок в подобных делах.
Теэтет. Клянусь богами, Сократ, все это
приводит меня в изумление, и, сказать по правде, иногда, когда я
пристально вглядываюсь в это, у меня темнеет в глазах.
Сократ. А Феодор, как видно, неплохо
разгадал твою природу, милый друг. Ибо как раз философу свойственно
испытывать такое изумление . Оно и есть начало философии, и тот, кто
назвал Ириду дочерью Тавманта, видно, знал толк в родословных.
Однако ты уже уяснил, каким образом это относится к тому, что
толковал Протагор, или нет?
Теэтет. Кажется, нет.
Сократ. А скажешь ли ты мне спасибо, если
вместе с тобой я стану открывать истину, скрытую в рассуждениях
одного мужа, а вернее сказать, даже многих именитых мужей?
Теэтет. Как не сказать! Разумеется, скажу.
Сократ. Оглянись же как следует, дабы не
подслушал нас кто-нибудь из непосвященных. Есть люди, которые
согласны признать существующим лишь то, за что они могут цепко
ухватиться руками, действиям же или становлениям, как и всему
незримому, они не отводят доли в бытии.
Теэтет. Но, Сократ, ты говоришь о каких-то
твердолобых упрямцах.
Сократ. Да, дитя мое, они порядком
невежественны. Но есть и другие, более искушенные. Вот их-то тайны я
и собираюсь тебе поведать. Первоначало, от которого зависит у них
все, о чем мы сегодня толковали, таково: все есть движение, и кроме
движения нет ничего. Есть два вида движения, количественно
беспредельные: свойство одного из них – действие, другого –
страдание. Из соприкосновения их друг с другом и взаимодействия
возникают бесчисленные пары: с одной стороны, ощутимое, с другой –
ощущение, которое возникает и появляется всегда вместе с ощутимым.
Эти ощущения носят у нас имена зрения, слуха, обоняния, чувства
холода или тепла. Сюда же относится то, что называется
удовольствиями, огорчениями, желаниями, страхами, и прочие ощущения,
множество которых имеют названия, а безымянным и вовсе нет числа.
Ощутимые же вещи сродни каждому из этих ощущений: всевозможному
зрению – всевозможные цвета, слуху – равным же образом звуки и
прочим ощущениям – прочее ощутимое, возникающее совместно с ними.
Разумеешь ли, Теэтет, что дает нам это предположение для нашего
прежнего рассуждения? Или нет?
Теэтет. Не очень хорошо, Сократ.
Сократ. Однако приглядись, не бьет ли оно
в ту же цель? Ведь она означает, что все это, как мы и толковали,
движется, и движению этому присуща быстрота и медленность. Поэтому
то, что движется медленно, движется на одном месте или в направлении
к близлежащим вещам, то же, что возникает от этого, получается –
более медленным. А что движется быстро, движется в направлении к
удаленным вещам, и то, что от этого возникает, получается более
быстрым. Ибо оно несется, и в этом порыве заключается природа его
движения. Поэтому как только глаз, приблизившись к чему-то ему
соответствующему, порождает белизну и сродное ей ощущение – чего
никогда не произошло бы, если бы каждое из них сошлось с тем, что
ему не соответствует, – тотчас же они несутся в разные стороны:
зрение – к глазам, а белизна – к цвету соучастника этого рождения.
Глаз наполняется зрением и видит, становясь не просто зрением, но
видящим глазом, что же касается второго родителя, то он,
наполнившись белизной, уже становится в свою очередь не белизной, но
белым предметом – будь то дерево, камень или любая вещь, выкрашенная
в этот цвет. Так же и прочее: жесткое, теплое и все остальное, коль
скоро мы будем понимать это таким же образом, не может существовать
само по себе, о чем мы в свое время уже говорили, но все
разнообразие вещей возникает от взаимного общения и движения, причем
невозможно, как говорится, твердо разграничить, что здесь
действующее, а что страдающее. Ибо нет действующего, пока оно не
встречается со страдающим, как нет и страдающего, пока оно не
встретится с действующим. При этом, сойдясь с одним, что-то
оказывается действующим, а сойдясь с другим – страдающим. Так что из
всего того, о чем мы с самого начала рассуждали, ничто не есть само
по себе, но все всегда возникает в связи с чем-то, а [понятие]
"существовать" нужно отовсюду изъять, хотя еще недавно мы вынуждены
были им пользоваться по привычке и по невежеству. Ибо эти мудрецы
утверждают, что не должно допускать таких выражений, как "нечто",
"чье-то", "мое", "это", "то", и никакого другого имени, выражающего
неподвижность. В согласии с природой вещей должно обозначать их в
становлении, созидании, гибели и изменчивости. Поэтому, если бы
кто-то вздумал остановить что-либо с помощью слова, он тотчас же был
бы изобличен. Так нужно рассматривать и каждую часть, и собрание
многих частей, каковое, как они полагают, представляют собой человек
и камень, каждое живое существо и каждый вид. Ну что, Теэтет,
способен ли ты получить удовольствие и наслаждение от этих
рассуждений?
Теэтет. Не знаю, Сократ. Я даже не могу
сообразить, свое ли мнение ты высказываешь или испытываешь меня.
Сократ. Ты запамятовал, друг мой, что я
ничего не знаю и ничего из этого себе не присваиваю, – я уже
неплоден и на все это не способен. Нынче я принимаю у тебя, для того
и заговариваю тебя и предлагаю отведать зелья всяких мудрецов, пока
не выведу на свет твое собственное решение. Когда же оно выйдет на
свет, тогда мы и посмотрим, чахлым оно окажется или полноценным и
подлинным. Однако теперь мужественно и твердо, благородно и смело
ответь мне, что ты думаешь о том, что я хочу у тебя спросить.
Теэтет. Ну что же, спрашивай.
Сократ. Итак, скажи мне еще раз, нравится
ли тебе утверждение, что все вещи, о которых мы рассуждали, не
существуют как нечто, по всегда лишь становятся добрыми, прекрасными
и так далее?
Теэтет. По крайней мере, пока я слушаю
тебя, это рассуждение представляется мне очень толковым и вполне
приемлемым в таком виде.
Сократ. Тогда не оставим без внимания и
остального. Остались же у нас сновидения и болезни, особенно же
помешательства, которые обычно истолковывают как расстройство
зрения, слуха или какого-нибудь другого ощущения. Ты ведь знаешь,
что во всех этих случаях недавно разобранное утверждение как раз
опровергается, так как в высшей степени ложны наши ощущения,
рожденные при этом, и то, что каждому кажется каким– то, далеко не
таково на самом деле, но совсем напротив, из того, что кажется,
ничто не существует.
Теэтет. Это сущая правда, Сократ.
Сократ. Итак, мой мальчик, какое же еще
остается у кого-либо основание полагать, что знание есть ощущение и
что каждая вещь для каждого такова, какой она ему кажется?
Теэтет. Я уже боюсь, Сократ, отвечать, что
мне нечего сказать, после того как ты выговорил мне за такие речи.
Однако, по правде сказать, я не мог бы спорить, что в помешательстве
или в бреду люди не заблуждаются, воображая себя кто богом, а кто
как бы летающей птицей.
Сократ. Не подразумеваешь ли ты здесь
известного спора о сне и яви?
Теэтет. Какого такого спора?
Сократ. Я думаю, что ты слышал упоминания
о нем: когда задавался вопрос, можно ли доказать, что мы вот в это
мгновение спим и все, что воображаем, видим во сне или же мы
бодрствуем и разговариваем друг с другом наяву.
Теэтет. В самом деле, Сократ, трудно найти
здесь какие-либо доказательства: ведь одно повторяет другое, как
антистрофа строфу. Ничто не мешает нам принять наш теперешний
разговор за сон, и, даже когда во сне нам кажется, что мы видим сны,
получается нелепое сходство этого с происходящим наяву.
Сократ. Ты видишь, что спорить не так уж
трудно, тем более что спорно уже то, сон ли это или явь, а поскольку
мы спим и бодрствуем равное время, в нашей душе всегда происходит
борьба: мнения каждого из двух состояний одинаково притязают на
истинность, так что в течение равного времени мы называем
существующим то одно, то – другое и упорствуем в обоих случаях
одинаково.
Теэтет. Именно так и происходит.
Сократ. Стало быть, такой же вывод мы
должны сделать и для болезней и помешательств с той только разницей,
что время не будет здесь равным.
Теэтет. Правильно.
Сократ. Ведь истина не определяется
большим или меньшим временем?
Теэтет. Это было бы совсем смешно.
Сократ. А другие, ясные доказательства
истинности одного из этих мнении мог бы ты привести?
Теэтет. Думаю, что нет.
Сократ. Тогда выслушай от меня, что
сказали бы об этом те, кто утверждает, будто любое мнение всегда
истинно для мнящего так. Рассуждают они, думаю я, следующим образом.
Скажи, Теэтет, спрашивают они, нечто во всех отношениях иное разве
будет иметь те же самые свойства, что и отличная от него вещь? И
давай не будем принимать, что в каком-то отношении оно тождественно
[этой вещи], а в каком-то – иное. Я спрашиваю об ином в целом.
Теэтет. В случае если это совсем иное,
невозможно, чтобы оно было тождественно [другой вещи] либо по своим
свойствам, либо в чем угодно другом.
Сократ. И необходимо согласиться, что оно
будет также неподобно той вещи?
Теэтет. Мне кажется, да.
Сократ. Итак, если что-то вдруг окажется
чему-то подобным или неподобным либо тождественным или иным, то
скажем ли мы, что тождественное подобно, а иное – неподобно?
Теэтет. Непременно.
Сократ. А раньше мы утверждали, что
действующее так же многочисленно и беспредельно, как и страдающее.
Теэтет. Да.
Сократ. И что одно, сойдясь с другим,
произведет не тождественное другому, а иное.
Теэтет. Разумеется.
Сократ. Так давай потолкуем обо мне и о
тебе и обо всем другом на тот же лад. Возьмем, с одной стороны,
здорового Сократа, а с другой – Сократа больного. Скажем ли мы, что
тот подобен этому или что неподобен?
Теэтет. Ты хочешь сказать, больной Сократ
в целом подобен ли здоровому Сократу в целом?
Сократ. Ты прекрасно меня понял: именно
это я хочу сказать.
Теэтет. Конечно, неподобен.
Сократ. Стало быть, это иной Сократ, раз
он неподобен тому?
Теэтет. Непременно.
Сократ. То же ты можешь сказать и о спящем
и обо всем прочем, что мы сегодня разобрали?
Теэтет. Именно так.
далее