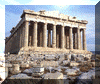Перевод А.Н. Егунова
Платон. С.с.
3-х т.Т3 (1). — М., 1971 г
Примечания А.А. Тахо-Годи
ГОСУДАРСТВО.2
(357)
Я думал, что после таких моих слов мне будет уже
излишне продолжать беседу, но оказалось, что это было не более как
вступление к ней. Главкон, который никогда ни перед чем не отступает,
и сейчас не стерпел отказа Фрасимаха от рассуждения и сказал:
[Справедливость и несправедливость (продолжение)]
— Сократ, желательно ли тебе, чтобы только
казалось, будто ты нас переубедил, или чтобы мы подлинно убедились в
том, что быть человеком справедливым в любом случае лучше, чем
несправедливым?
— Подлинно убедить я бы, конечно, предпочел, если
б это от меня зависело.
— Между тем ты не делаешь того, что тебе
желательно. Скажи-ка мне, представляется ли тебе благом то, что для
нас приемлемо не ради его последствий, но ценно само по себе? Вроде
как, например, радость или какие-нибудь безобидные удовольствия —
они в дальнейшем ни к чему, но они веселят человека.
— Мне лично оно представляется чем-то именно в
таком роде.
— Далее. А то, что мы чтим и само по себе, и ради
его последствий? Например, разумение, зрение, здоровье и все ценное
для нас по обеим этим причинам считаешь ли ты благом?
— Да.
— А не замечаешь ли ты еще и какого-то третьего
вида блага, к которому относятся упражнения тела, пользование
больных, лечение и прочие прибыльные занятия? Мы признали бы, что
они тягостны, хотя нам и полезны1.
Вряд ли мы стали бы ими заниматься ради них самих, но они
оплачиваются и дают разные другие преимущества.
— Существует и такой третий вид благ. Но что из
того?
— К какому же виду благ ты относишь
справедливость?
— Я-то полагаю, что к самому прекрасному, который
и сам по себе, и по своим последствиям должен 358быть
ценен человеку, если тот стремится к счастью.
— А большинство держится иного взгляда и относит
ее к виду тягостному, которому можно предаваться лишь за
вознаграждение, ради уважения и славы, сама же она по себе будто бы
настолько трудна, что лучше ее избегать.
— Я знаю такое мнение; недаром Фрасимах давно уже
порицает этот вид блага и превозносит несправедливость. Но я, видно,
непонятлив.
— Погоди, выслушай и меня — вдруг ты со мной
согласишься. Фрасимах, по-моему, слишком скоро поддался, словно змея,
твоему заговору, а я все еще не удовлетворен твоим доказательством
как той, так и другой стороны вопроса. Я желаю услышать, что же
такое справедливость и несправедливость и какое они имеют значение,
когда сами по себе содержатся в душе человека; а что касается
вознаграждения и последствий, это мы оставим в стороне.
Вот что я сделаю, если ты не возражаешь: я снова
вернусь к рассуждению Фрасимаха. Скажу, во-первых,
со том, как представляют себе такие люди справедливость и ее
происхождение; во-вторых, упомяну, что все, кто ее придерживается,
делают это против воли, словно это необходимость, а не благо;
в-третьих, укажу, что так поступать уместно, потому что, как
уверяют, жизнь человека несправедливого много лучше жизни
справедливого. Мне-то лично, Сократ, все это представляется совсем
не так, но я нахожусь в недоумении — мне все уши прожужжали и
Фрасимах, и сотни других людей. А вот того, что мне хочется, —
доказательства в защиту справедливости, то есть, что она лучше
несправедливости, — я как-то ни от кого не слыхал. Мне хочется
услыхать похвалу ей — самой по себе. Думаю, что в особенности от
тебя я могу узнать об этом — вот почему я нарочно стану хвалить
несправедливую жизнь, чтобы тем самым подсказать тебе, каким образом
мне хотелось бы услышать от тебя порицание несправедливости и
похвалу справедливости. Смотри, согласен ли ты с моим предложением?
— Вполне. Разве есть для разумного человека
что-нибудь более приятное, чем возможность почаще беседовать о таком
предмете?
— Прекрасно. Выслушай же то, о чем я упомянул
сперва, а именно в чем состоит справедливость и откуда она берется.
Говорят, что творить несправедливость обычно
бывает хорошо, а терпеть ее — плохо. Однако, когда терпишь
несправедливость, в этом гораздо больше плохого, чем бывает
хорошего, когда ее творишь. Поэтому, когда люди отведали и того и
другого, то есть и 359поступали
несправедливо, и страдали от несправедливости, тогда они, раз уж нет
сил избежать одной и придерживаться другой, нашли целесообразным
договориться друг с другом, чтобы и не творить несправедливости, и
не страдать от нее. Отсюда взяло свое начало законодательство и
взаимный договор2.
Установления закона и получили имя законных и справедливых — вот
каково происхождение и сущность справедливости; она занимает среднее
место: ведь творить несправедливость, оставаясь притом
безнаказанным, это всего лучше, а терпеть несправедливость, когда ты
не в силах отплатить, — всего хуже. Справедливость же лежит посреди
между этими крайностями, и этим приходится довольствоваться, но не
потому, что она благо, а потому, что люди ценят ее из-за своей
собственной неспособности творить несправедливость. Никому из тех,
кто в силах творить несправедливость, то есть кто доподлинно муж, не
придет в голову заключать договоры о недопустимости творить или
испытывать несправедливость — разве что он сойдет с ума. Такова,
Сократ, — или в таком роде — природа справедливости, и вот из-за
чего она появилась, согласно этому рассуждению.
А что соблюдающие справедливость соблюдают ее
из-за бессилия творить несправедливость, а не по доброй воле, это мы
всего легче заметим, если мысленно сделаем вот что: дадим полную
волю любому человеку, как справедливому, так и несправедливому,
творить все что ему угодно, и затем понаблюдаем, куда его поведут
его влечения. Мы поймаем справедливого человека с поличным: он готов
пойти точно на то же самое, что и несправедливый, — причина тут в
своекорыстии, к которому, как к благу, стремится любая природа, и
только с помощью закона, насильственно ее заставляют соблюдать
надлежащую меру.
У людей была бы полнейшая возможность, как я
говорю, творить все что угодно, если бы у них была та способность,
которой, как говорят, обладал некогда Гиг, сын Лида3.
Он был пастухом и батрачил у тогдашнего правителя Лидии; как-то раз,
при проливном дожде и землетрясении, земля кое-где расселась и
образовалась трещина в тех местах, где Гиг пас свое стадо. Заметив
это, он из любопытства спустился в расселину и увидел там, как
рассказывают, разные диковины, между прочим медного коня, полого и
снабженного дверцами. Заглянув внутрь, он увидел мертвеца, с виду
больше человеческого роста. На мертвеце ничего не было, только на
руке — золотой перстень. Гиг снял его и взял себе, а затем вылез
наружу. Когда пришла пора пастухам собраться на сходку, как они
обычно делали каждый месяц, чтобы отчитаться перед царем о состоянии
стада, Гиг тоже отправился туда, а на руке у него был перстень. Так
вот, когда он сидел среди пастухов, случилось ему повернуть перстень
камнем к ладони, и чуть только это произошло, Гиг
360стал невидимкой, и сидевшие рядом с ним говорили о нем уже
как об отсутствующем. Он подивился, нащупал снова перстень и
повернул его камнем наружу, а чуть повернул, снова стал видимым.
Заметив это, он начал пробовать, действительно ли перстень обладает
таким свойством, и всякий раз получалось, что стоило только
повернуть перстень камнем к ладони, Гиг делался невидимым, когда же
он поворачивал его камнем наружу—видимым.
Поняв это, он сразу повел дело так, чтобы попасть
в число вестников, окружавших царя. А получив к царю доступ, Гиг
совратил его жену, вместе с ней напал на него, убил и захватил
власть.
Если бы было два таких перстня — один на руке у
человека справедливого, а другой у несправедливого, тогда, надо
полагать, ни один из них не оказался бы настолько твердым, чтобы
остаться в пределах справедливости и решительно воздержаться от
присвоения чужого имущества и не притрагиваться к нему, хотя каждый
имел бы возможность без всякой опаски брать что угодно на рыночной
площади, проникать в дома и сближаться с кем вздумается, убивать,
освобождать из заключения кого захочет — вообще действовать среди
людей так, словно он равен богу. Поступая таким образом, обладатели
перстней нисколько не отличались бы друг от друга: оба они пришли бы
к одному и тому же. Вот это и следует признать сильнейшим
доказательством того, что никто не бывает справедливым по своей
воле, но лишь по принуждению, раз каждый человек не считает
справедливость самое но себе благом и, где только в состоянии
поступать несправедливо, он так и поступает. Ведь всякий человек про
себя считает несправедливость гораздо более целесообразной, чем
справедливость, и считает он это правильно, скажет тот, кто защищает
такой взгляд. Если человек, овладевший такою властью, не пожелает
когда-либо поступить несправедливо и не притронется к чужому
имуществу, он всем, кто это заметит, покажется в высшей степени
жалким и неразумным, хотя люди и станут притворно хвалить его друг
перед другом — из опасения, как бы самим не пострадать. Вот как
обстоит дело.
Что же касается самой оценки образа жизни тех, о
ком мы говорим, то об этом мы будем в состоянии правильно судить
только тогда, когда сопоставим самого справедливого человека и
самого несправедливого, в противном же случае — нет. В чем же
состоит это сопоставление? А вот в чем: у несправедливого человека
нами не будет изъято ни одной черты несправедливости, а у
справедливого — ни одной черты справедливости, и тот и другой будет
у нас доведен в своих привычках до совершенства. Так вот, прежде
всего пусть человек несправедливый действует наподобие искусных
мастеров: умелый кормчий или врач знает, что в его деле невозможно,
а что возможно — за одно он принимается, за другое даже не берется;
361вдобавок он способен
и исправить какой-нибудь свой случайный промах. У человека
несправедливого — коль скоро он намерен именно таковым быть — верным
приемом в его несправедливых делах должна быть скрытность. Если его
поймают, значит, он слаб. Ведь крайняя степень несправедливости—это
казаться справедливым, не будучи им на самом деле. Совершенно
несправедливому человеку следует изображать совершеннейшую
справедливость, не лишая ее ни одной черточки; надо допустить, что
тот, кто творит величайшую несправедливость, уготовит себе
величайшую славу в области справедливости: если он в чем и
промахнется, он сумеет поправиться; он владеет даром слова, чтобы
переубедить, если раскроется что-нибудь из его несправедливых дел;
он способен также применить насилие, где это требуется, потому что
он обладает и мужеством, и силой, да, кроме того, приобрел себе
друзей и богатство.
Представив себе таким несправедливого человека,
мы в этом нашем рассуждении противопоставим ему справедливого, то
есть человека простого и благородного, желающего, как сказано у
Эсхила, не казаться, а быть хорошим4.
Показное здесь надо откинуть. Ибо если он будет справедливым напоказ,
ему будут воздаваться почести и преподноситься подарки; ведь всем
будет казаться, что он именно таков, а ради ли справедливости он
таков или ради подарков и почестей — будет неясно. Его следует
обнажить ото всего, кроме справедливости, и сделать его полной
противоположностью тому, первому человеку. Не совершая никаких
несправедливостей, пусть прослывет он чрезвычайно несправедливым,
чтобы тем самым подвергнуться испытанию на справедливость и доказать,
что к нему не пристанет дурная молва н то, что за нею следует. Пусть
он неизменно идет своим путем вплоть до смерти, считаясь
несправедливым при жизни, хотя на самом деле он справедлив. И вот
когда оба они дойдут до крайнего предела, один — справедливости,
другой — несправедливости, можно будет судить, кто из них счастливее.
— Ох, дорогой Главкон, — сказал я, — крепко же ты
отшлифовал для нашего суждения, словно статую, каждого из этих двоих
людей!
— Постарался, как только мог, — отвечал Главкон,
— а раз они таковы, то, думаю я, будет уже нетрудно разобрать путем
рассуждения, какая жизнь ожидает каждого из них. Надо об этом
сказать; если же выйдет несколько резко, то считай, Сократ, что это
говорю не я, а те, кто вместо справедливости восхваляет
несправедливость. Они скажут: так расположенный справедливый человек
подвергнется 362бичеванию, пытке на дыбе,
на него наложат оковы, выжгут ему глаза, а в конце концов, после
всяческих мучений, его посадят на кол и он узнает, что желательно не
быть, а лишь казаться справедливым. Причем выражение Эсхила гораздо
правильнее будет применить к человеку несправедливому. Ведь
действительно скажут, что человек несправедливый занимается делом не
чуждым истины, живет не ради молвы, желает не только казаться
несправедливым, но на самом деле быть им:
Свой ум взрыхлил он бороздой глубокою,
Произрастают где решенья мудрые5.
Прежде всего в его руках окажется государственная
власть — поскольку он будет казаться справедливым, затем он возьмет
себе жену из какой угодно семьи, станет выдавать замуж кого ему
вздумается, будет вступать в связи и общаться с кем ему угодно, да
еще вдобавок из всего этого извлекать выгоду, потому что он ничуть
не брезгает несправедливостью. Случится ли ему вступить в частный
или в общественный спор, он возьмет верх и одолеет своих врагов, а
одолев их, разбогатеет, облагодетельствует своих друзей, разгромит
врагов, станет приносить богам обильные и роскошные жертвы и дары,
то есть будет чтить богов, да и кого захочет из людей, гораздо
лучше, чем человек справедливый, так что, по всей вероятности,
скорее ему, а не человеку справедливому пристало быть угодным богам.
Вот чем, Сократ, подкрепляется утверждение, что и со стороны богов,
и со стороны людей человеку несправедливому уготована жизнь лучшая,
чем справедливому.
Когда Главкон кончил, я собрался было с мыслями,
чтобы как-то ему возразить, но его брат Адимант обратился ко мне:
— Ты, Сократ, конечно, не считаешь, что сказанное
решает спорный вопрос?
— Конечно.
— Упущено самое главное из того, что надо было
сказать.
— Значит, согласно поговорке: "брат выручай
брата"6,
если Главкон что упустил, твое дело помочь ему. А для меня и того,
что он сказал, уже достаточно, чтобы оказаться побитым и лишиться
возможности помочь справедливости.
е— Ты говоришь пустое, —
возразил Адимант, — а выслушай еще вот что: нам надо разобрать и те
доводы, которые противоположны сказанному Главконом — они одобряют
справедливость и порицают несправедливость, — тогда станет яснее,
по-моему, намерение Главкона. 363И отцы,
когда говорят и внушают своим сыновьям, что надо быть справедливыми,
и все, кто о ком-либо имеет попечение, одобряют не самое
справедливость, а зависящую от нее добрую славу, чтобы тому, кто
считается справедливым, достались и государственные должности, и
выгоды в браке, то есть все то, о чем сейчас упоминал Главкон,
говоря о человеке, пользующемся доброй славой, хотя и
несправедливом. Более того, эти люди ссылаются и на другие
преимущества доброй славы: добавив также почет со стороны богов, они
могут указать на обильные блага, которые, как они считают, боги
даруют людям благочестивым. Об этом говорит такой возвышенный поэт,
как Гесиод, да и Гомер тоже. По Гесиоду, боги сотворили для
праведных дубы,
Желуди чтобы давать с верхушки и мед из
средины;
Овцы отягчены густорунные шерстью богатой
7.
И много других благ сотворили они в дополнение к
этому. Почти то же самое и у Гомера:
Ты уподобиться можешь царю беспорочному;
страха
Божия полный [и многих людей повелитель могучий],
Правду творит он; в его областях изобильно родится
Рожь, и ячмень, и пшено, тяготеют плодами деревья,
Множится скот на полях и кипят многорыбием воды...8
А Мусей и его сын9
уделяют праведникам от богов блага увлекательнее этих: согласно
этому учению, когда те сойдут в Аид, их укладывают на ложе,
устраивают пирушку для этих благочестивых людей и делают так, что
они проводят все остальное время уже в опьянении, с венками на
голове; Мусей считает, что самая прекрасная награда за добродетель —
это вечное опьянение10.
А согласно другим учениям, награды, даруемые
богами, распространяются еще дальше: после человека благочестивого и
верного клятвам останутся дети его детей и все его потомство. Вот за
что — и за другие вещи в этом же роде — восхваляют они
справедливость. А людей нечестивых и неправедных они погружают в
какую-то трясину в Аиде и заставляют еносить
решетом воду11.
Таким людям еще при их жизни приписывают дурную славу: то наказание,
о котором упоминал Главкон, говоря о людях справедливых, но
прослывших несправедливыми, и постигает, как уверяют, людей
несправедливых. Больше о них сказать ничего нельзя. Вот какова
похвала и порицание тем и другим.
Кроме того, относительно справедливости и
несправедливости рассмотри, Сократ, еще и другой вид высказываний,
встречающихся и в обыденной речи, 364и у
поэтов. Все в один голос твердят, что рассудительность и
справедливость — нечто прекрасное, однако в то же время тягостное и
трудное, отличаться же разнузданностью и несправедливостью приятно и
легко и только из-за общего мнения и закона считается постыдным.
Большей частью говорят, что несправедливые поступки целесообразное
справедливых: люди легко склоняются к тому, чтобы и в общественной
жизни, и в частном быту считать счастливыми и уважать негодяев, если
те богаты и вообще влиятельны. и ни во что не ставить и презирать
каких-нибудь немощных бедняков, пусть даже и признавая, что они
лучше богачей.
Из всего этого наиболее удивительны те взгляды,
которые высказывают относительно богов и добродетели — будто бы и
боги уделяют несчастье н плохую жизнь многим хорошим людям, а
противоположным— противоположную участь12.
Нищенствующие прорицатели околачиваются у дверей богачей, уверяя,
будто обладают полученной от богов способностью жертвоприношениями и
заклинаниями загладить тяготеющий на ком-либо или на его предках
проступок, причем это будет сделано приятным образом, посреди
празднеств. Если же кто пожелает нанести вред своему врагу, то при
незначительных издержках он справедливому человеку может навредить в
такой же степени, как и несправедливому: они уверяют, что с помощью
каких-то заклятии и узелков они склоняют богов им помочь13.
А в подтверждение всего этого приводят свидетельства поэтов,
говорящих о доступности зла:
Выбор зла в изобилии предоставляется людям
Очень легко: ровен путь и обитель его совсем близко,
А преддверием доблести пот установлен богами
14,
да и путь к ней какой-то долгий и крутой. В
подтверждение же того, что люди способны склонить богов, ссылаются
на Гомера, так как и он сказал, что боги, и то умолимы,
Хоть добродетелью, честью и силой намного нас
выше,
Но и бессмертных богов благовоньями, кроткой молитвой,
Вин возлияньем и жиром сжигаемой жертвы смягчает
Смертный просящий, когда он пред ними виновен и грешен
15.
У жрецов под рукой куча книг Мусея и Орфея,
потомков, как говорят, Селены и Муз16,
и по этим книгам они совершают свои обряды, уверяя не только
отдельных лиц, но даже целые народы, будто и для тех, кто еще в
живых, и для тех, кто уже скончался, есть избавление и очищение от
зла: оно состоит в жертвоприношениях и в приятных забавах, которые
365они называют посвящением в таинства; это
будто бы избавляет нас от загробных мучений, а кто не совершал
жертвоприношений, тех ожидают ужасы17.
И сколько же такой всякой всячины, дорогой
Сократ, утверждается относительно добродетели и порочности, и о том,
как они расцениваются у людей н у богов! Что же под этим
впечатлением делать, скажем мы, душам юношей? Несмотря на свои
хорошие природные задатки, они словно слетаются на приманку таких
рассказов и способны по ним делать вывод, каким надо быть человеку и
какого ему направления придерживаться, чтобы как можно лучше пройти
свой жизненный путь. По всей вероятности, юноша задаст самому себе
вопрос наподобие Пиндара:
Правдой ли взойти мне на вышнюю крепость
Или обманом и кривдой18
и под их защитой провести жизнь? Судя по этим
рассказам, если я справедлив, а меня таким но считают, пользы от
этого для меня, как уверяют, не будет никакой, одни только тяготы и
явный ущерб. А для человека несправедливого, но снискавшего себе
славу справедливости, жизнь, как утверждают, чудесна. Следовательно,
раз видимость, как объясняют мне люди мудрые, пересиливает даже
истину19
и служит главным условием благополучия, мне именно на это и следует
обратить все свое внимание: в качестве преддверия, для видимости мне
надо начертать вокруг себя живописное изображение добродетели и под
этим прикрытием протащить лисицу премудрого Архилоха, ловкую и
изворотливую20.
Но, скажет кто-нибудь, нелегко все время скрывать свою порочность.
Да ведь и все великое без труда не дается, ответим мы ему. Тем не
менее, если мы стремимся к благополучию, приходится идти по тому
пути, которым ведут пас следы этих рассуждений. Чтобы утаиться, мы
составим союзы и сообщества; существуют и наставники в искусстве
убеждать, от них можно заимствовать судейскую премудрость и умение
действовать в народных собраниях: таким образом, мы будем прибегать
то к убеждению, то к насилию, так, чтобы всегда брать верх и не
подвергаться наказанию.
Но от богов-то невозможно ни утаиться, ни
применить к ним насилие. Тогда, если боги не существуют или если они
нисколько не заботятся о человеческих делах, то и нам нечего
заботиться о том, чтобы от них утаиться. Если же боги существуют и
заботятся о нас, так ведь мы знаем о богах или слышали о них не
иначе как из сказаний и от поэтов, изложивших их родословную. Те же
самые источники утверждают, что можно богов переубедить, привлекая
их на свою сторону жертвами, кроткими молитвами и приношениями. Тут
приходится либо верить и в то и в другое, либо не верить вовсе. Если
уж верить, то следует сначала поступить несправедливо, а затем
принести жертвы богам от своих несправедливых стяжаний.
366Ведь, придерживаясь справедливости, мы,
правда, не будем наказаны богами, но зато лишимся выгоды, которую
несправедливость могла бы нам принести. Придерживаться же
несправедливости нам выгодно, а что касается наших преступлений и
ошибок, так мы настойчивой мольбой переубедим богов и избавимся от
наказания. Но ведь в Аиде либо нас самих, либо детей наших детей
ждет кара за наши здешние несправедливые поступки. Однако, друг мой,
скажет расчетливый человек, здесь-то и имеют великую силу посвящения
в таинства и боги-избавители, и именно этого придерживаются как
крупнейшие государства, так и дети богов, ставшие поэтами и божьими
пророками21:
они указывают, что дело обстоит именно таким образом.
На каком же еще основании выбрали бы мы себе
справедливость вместо крайней несправедливости? Если мы овладеем
несправедливостью в сочетании с притворной благопристойностью, наши
действия будут согласны с разумом пред лицом как богов, так и людей,
— и при нашей жизни и после кончины: вот взгляд, выражаемый
большинством высокопоставленных лиц. После всего сказанного есть ли
какая-нибудь возможность, Сократ, чтобы человек, одаренный душевной
и телесной силой, обладающий богатством и родовитый, пожелал уважать
справедливость, а не рассмеялся бы, слыша, как ее превозносят? Да и
тот, кто может опровергнуть всё, что мы теперь сказали, и кто вполне
убежден, что самое лучшее — это справедливость, даже он будет очень
склонен извинить людей несправедливых и отнестись к ним без гнева,
сознавая, что человек бывает возмущен несправедливостью разве лишь,
если он божествен по природе, и воздерживается от нее только тогда,
когда обладает знанием, а вообще-то никто не придерживается
справедливости по доброй воле: всякий осуждает несправедливость
из-за своей робости, старости или какой-либо иной немощи, то есть
потому, что он просто не в состоянии ее совершить. Ясно, что это
так. Ведь из таких людей первый, кто только войдет в силу, первым же
и поступает несправедливо, насколько он способен.
Причина всему этому не что иное, как то, из чего
и исходило все это наше рассуждение. И вот как он, так и я, мы оба
скажем тебе, Сократ, следующее: "Поразительный ты человек! Сколько
бы всех вас ни было, признающих себя почитателями справедливости,
никто, начиная от первых героев — ведь высказывания многих из них
сохранились — и вплоть до наших современников, никогда не порицал
несправедливость и не восхвалял справедливость иначе как за
вытекающие из них славу, почести и дары. А самое справедливость или
несправедливость, своей собственной силой содержащуюся в душе того,
кто ею обладает, хотя бы это таилось и от богов, и от людей, еще
никто никогда не подвергал достаточному разбору ни в стихах, ни в
прозе, и никто не говорил, что несправедливость — это величайшее
зло, 367какое только может в себе содержать
душа, а справедливость — величайшее благо. Если бы вы все с самого
начала так говорили и убедили бы нас в этом с юных лет, нам не
пришлось бы остерегать друг друга от несправедливых поступков,
каждый был бы своим собственным стражем из опасения, как бы не стать
сподвижником величайшего зла, творя несправедливость".
Вот что, а быть может и более того, сказал бы
Фрасимах — или кто другой — о справедливости и несправедливости, как
мне кажется, грубо извращая их значение. Но я — мне нечего от тебя
таить — горячо желаю услышать от тебя опровержение, оттого-то я и
говорю, напрягаясь изо всех сил. Так вот ты в своем ответе и покажи
нам не только, что справедливость лучше несправедливости, но и какое
действие производит в человеке присутствие той или другой самой по
себе — зло или благо. Мнений же о справедливости и несправедливости
не касайся, как это и советовал Главкон. Ведь если ты сохранишь в
обоих случаях истинные мнения, а также присовокупишь к ним ложные,
то мы скажем, что ты хвалишь не справедливость, но ее видимость, а
порицание твое относится не к несправедливости, а к мнению о ней:
получится, что ты советуешь несправедливому человеку таиться и
соглашаешься с Фрасимахом, что справедливость — это благо другого,
что она пригодна сильнейшему, для которого пригодна и целесообразна
собственная несправедливость, слабейшему же справедливость не нужна.
Раз ты признал, что справедливость относится к величайшим благам,
которыми стоит обладать и ради проистекающих отсюда последствий, и
еще более ради них самих, — таковы зрение, слух, разум, здоровье и
разные другие блага, подлинные по самой своей природе, а не по
мнению людей, — то вот эту сторону справедливости ты и отметь
похвалой: скажи, что она сама по себе помогает человеку, если он ее
придерживается, несправедливость же, напротив, вредит. А хвалить то,
что справедливость вознаграждается деньгами и славой, ты предоставь
другим. Когда именно за это восхваляют справедливость и осуждают
несправедливость, превознося славу и награды или же их порицая, то
от остальных людей я это еще могу вынести, но от тебя нет — разве
что ты этого потребуешь, — потому что ты всю свою жизнь не
исследовал ничего другого, кроме этого. Так вот, в своем ответе ты
покажи нам не только, что справедливость лучше несправедливости, но
и какое действие производит в человеке присутствие той или другой
самой но себе — все равно, утаилось ли это от богов и людей, или
нет, — и почему одна из них — благо, а другая — зло.
Эти слова Адиманта меня тогда особенно
порадовали, хотя я и всегда-то восхищался природными задатками его и
Главкона.
368— Вы и впрямь сыновья
своего славного родителя, — сказал я, — и неплохо начало элегии, с
которой обратился к вам поклонник Главкона, когда вы отличились в
сражении под Мегарой:
Славного Аристона божественный род — его дети
22.
Это, друзья, по-моему, хорошо. Испытываемое вами
состояние вполне божественно, раз вы не держитесь взгляда, будто
несправедливость лучше справедливости, и уже способны именно так
говорить об этом. Мне кажется, что вы и в самом деле не держитесь
такого взгляда. Заключаю так по всему вашему поведению, потому что
одним вашим словам я бы не поверил. Но чем больше я вам верю, тем
больше недоумеваю, как мне быть, не знаю, чем вам помочь, ц признаю
свое бессилие. Знаком этого служит мне следующее: мои доводы против
Фрасимаха, которые, как я полагал, уже показали, что справедливость
лучше несправедливости, не были вами восприняты. С другой стороны, я
не могу не защищать свои взгляды. Ведь я боюсь, что будет нечестиво,
присутствуя при поношении справедливости, уклоняться от помощи ей,
пока ты еще дышишь и в силах подать голос. Самое лучшее — вступиться
за нее в меру сил. Ведь Главкон и остальные просили меня помочь
любым способом и не бросать рассуждения, но, напротив, тщательно
исследовать, что такое справедливость и несправедливость и как
обстоит с истинной их полезностью. Я уже высказывал свое мнение, что
предпринимаемое нами исследование — дело немаловажное, оно под силу,
как мне кажется, лишь человеку с острым зрением. Мы недостаточно
искусны, по-моему, чтобы произвести подобное разыскание — это вроде
того как заставлять человека с не слишком острым зрением читать
издали мелко написанные буквы. И вдруг кто-то сообразит, что те же
самые буквы бывают и крупнее, где-нибудь в надписи большего размера!
Я думаю, прямо находкой была бы возможность прочесть сперва крупное,
а затем разобрать и мелкое, если только это одно и то же.
— Конечно, — сказал Адимант, — но какое же
сходство усматриваешь ты здесь, Сократ, с разысканиями, касающимися
справедливости?
— Я тебе скажу. Справедливость, считаем мы,
бывает свойственна отдельному человеку, по бывает, что и целому
государству.
— Конечно.
— А ведь государство больше отдельного человека?
— Больше.
[Использование государственного опыта для
познания частной справедливости]
— Так в том, что больше, вероятно, и
справедливость принимает большие размеры и ее легче там изучать.
Поэтому, если хотите, мы сперва исследуем, что такое справедливость
в государствах, а затем точно так же 369рассмотрим
ее и в отдельном человеке, то есть подметим в идее меньшего подобие
большего.
— По-моему, это хорошее предложение.
— Если мы мысленно представим себе возникающее
государство, мы, не правда ли, увидим там зачатки справедливости и
несправедливости?
— Пожалуй, что так.
— Есть надежда, что в этих условиях легче будет
заметить то, что мы ищем.
— Конечно.
— Так надо, по-моему, попытаться этого достичь.
Думаю, что дела у нас тут будет более чем достаточно. Решайте сами.
[Разделение труда в идеальном государстве
соответственно потребностям и природным задаткам]
— Уже решено, — сказал Адимант.
— Приступай же.
— Государство, — сказал я, — возникает, как я
полагаю, когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но
нуждается еще во многом. Или ты приписываешь начало общества
чему-либо иному?
— Нет, ничему иному.
с— Таким образом, каждый
человек привлекает то одного, то другого для удовлетворения той или
иной потребности. Испытывая нужду во многом, многие люди собираются
воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь: такое
совместное поселение и получает у нас название государства, не
правда ли?
— Конечно.
— Таким образом, они кое-что уделяют друг другу и
кое-что получают, и каждый считает, что так ему будет лучше.
— Конечно.
— Так давай же, — сказал я, — займемся мысленно
построением государства с самого начала. Как видно, его создают наши
потребности23.
— Несомненно.
— А первая и самая большая потребность — это
добыча пищи для существования и жизни.
— Безусловно.
— Вторая потребность — жилье, третья — одежда и
так далее.
— Это верно.
— Смотри же,—сказал я,—каким образом государство
может обеспечить себя всем этим: не так лп, что кто-нибудь будет
земледельцем, другой — строителем, третий — ткачом? И не добавить ли
нам к этому сапожника и еще кого-нибудь из тех, кто обслуживает
телесные наши нужды?
— Да, надо добавить.
— Самое меньшее, государству необходимо состоять
из четырех или пяти человек.
— По-видимому.
— Так что же? Должен ли каждый из них выполнять
свою работу с расчетом на всех вообще? Например, земледелец, хотя он
один, должен ли выращивать хлеб на четверых, тратить вчетверо больше
времени и трудов и уделять другим от того, что он произвел, или же,
не заботясь о них, он должен производить лишь четвертую долю этого
хлеба только для самого себя и тратить на это всего лишь четвертую
часть своего времени, а остальные три его части употребить на
постройку дома, изготовление одежды, обуви и не хлопотать о других,
370а производить все своими силами и лишь
для себя?
— Пожалуй, Сократ, — сказал Адимант, — первое
будет легче, чем это.
— Здесь нет ничего странного, клянусь Зевсом. Я
еще раньше обратил внимание на твои слова, что сначала люди
рождаются не слишком похожими друг на друга, их природа бывает
различна, да и способности к тому или иному делу также. Разве не
таково твое мнение?
— Да, таково.
— Так что же? Кто лучше работает — тот, кто
владеет многими искусствами или же только одним?
— Тот, кто владеет одним.
— Ясно, по-моему, и то, что стоит упустить время
для какой-нибудь работы, и ничего не выйдет.
— Конечно, ясно.
— И по-моему, никакая работа не захочет ждать,
когда у работника появится досуг; наоборот, он непременно должен
следить за работой, а не заниматься ею так, между прочим.
— Непременно.
с— Поэтому можно сделать
все в большем количестве, лучше и легче, если выполнять одну
какую-нибудь работу соответственно своим природным задаткам, и
притом вовремя, не отвлекаясь на другие работы24.
— Несомненно.
— Так вот, Адимант, для обеспечения того, о чем
мы говорили, потребуется больше, чем четыре члена государства. Ведь
земледелец, вероятно, если нужна хорошая соха, не сам будет
изготовлять ее для себя, или мотыгу и прочие земледельческие орудия.
В свою очередь и домостроитель — ему тоже требуется многое. Подобным
же образом и ткач, и сапожник.
— Это правда.
— Плотники, кузнецы и разные такие мастера, если
их включить в наше маленькое государство, сделают его многолюдным.
— И даже очень.
— Но оно все же не будет слишком большим, даже
если мы к ним добавим волопасов, овчаров и прочих
епастухов, чтобы у земледельцев были волы для пахоты, у
домостроителей вместе с земледельцами — подъяремные животные для
перевозки грузов, а у ткачей и сапожников — кожа и шерсть.
— Но и немалым будет государство, где все это
есть.
— Но разместить такое государство в местности,
где не понадобится ввоза, почти что невозможно.
— Невозможно.
— Значит, вдобавок понадобятся еще и люди для
доставки того, что требуется, из другой страны.
— Понадобятся.
— Но такой посредник уедет порожняком, если он
приехал порожняком, то есть не привез сюда ничего
371из того, что требовалось, оттуда. Не правда ли?
— По-моему, да.
— Здесь нужно будет производить не только то, что
достаточно для самих себя, но и все то, что требуется там, сколько
бы этого ни требовалось.
— Да, это необходимо.
— Нашей общине понадобится побольше земледельцев
и разных ремесленников.
— Да, побольше.
— И посредников для всякого рода ввоза и вывоза.
А ведь это — купцы. Разве нет?
— Да.
— Значит, нам потребуются и купцы.
— Конечно.
— А если это будет морская торговля, то вдобавок
потребуется еще и немало людей, знающих морское дело.
— Да, немало.
— Так что же? Внутри самого государства как будут
они передавать друг другу все то, что каждый производит? Ведь ради
того мы и основали государство, чтобы люди вступили в общение.
— Очевидно, они будут продавать и покупать.
— Из этого у нас возникнет и рынок, и монета —
знак обмена.
— Конечно.
— Если земледелец или кто другой из
ремесленников, доставив на рынок то, что он производит, придет не в
одно и то же время с теми, кому нужно произвести с ним обмен,
неужели же он, сидя на рынке, будет терять время, нужное ему для
работы?
— Вовсе нет, найдутся ведь люди, которые, видя
это, предложат ему свои услуги. В благоустроенных городах это,
пожалуй, самые слабые телом и непригодные ни к какой другой работе.
Они там, на рынке, только того и дожидаются, чтобы за деньги
приобрести что-нибудь у тех, кому нужно сбыть свое, и опять-таки
обменять это на деньги с теми, кому нужно что-то купить.
— Из-за этой потребности появляются у нас в
городе мелкие торговцы. Разве не назовем мы так посредников по купле
и продаже, которые засели на рынке? А тех, кто странствует но
городам, мы назовем купцами.
— Конечно.
— Бывают, я думаю, еще и какие-то иные
посредники: духовный их склад таков, что с ними не очень-то стоит
общаться, но они обладают телесной силой, достаточной для тяжелых
работ. Они продают внаем свою силу и называют жалованьем цену за
этот найм: потому-то, я думаю, их и зовут наемниками. Не так ли?
— Конечно, так.
— Для полноты государства, видимо, нужны и
наемники.
— По-моему, да.
— Так разве не разрослось у нас, Адимант,
государство уже настолько, что можно его считать совершенным?
— Пожалуй.
— Где же в нем место справедливости и
несправедливости? В чем из того, что мы разбирали, они проявляются?
372— Я лично этого не
вижу, Сократ. Разве что в какой-то взаимной связи этих самых
занятий.
— Возможно, что ты прав. Надо это исследовать и
не отступаться. Прежде всего рассмотрим образ жизни людей, так
подготовленных. Они будут производить хлеб, вино, одежду, обувь,
будут строить дома, летом большей частью работать обнаженными и без
обуви, а зимой достаточно одетыми и обутыми. Питаться они будут,
изготовляя себе крупу из ячменя и пшеничную муку; крупу будут
варить, тесто месить и выпекать из него великолепные булки и хлеб,
раскладывая их в ряд на тростнике или на чистых листьях. Возлежа на
подстилках, усеянных листьями тиса и миртами, они будут пировать, и
сами и их дети, попивая вино, будут украшать себя венками и
воспевать богов, радостно общаясь друг с другом; при этом,
остерегаясь бедности и войны, они будут иметь детей не свыше того,
что позволяет им их состояние.
Тут Главкон прервал меня:
— Ты заставляешь этих людей угощаться, видимо,
без всяких кушаний!
— Твоя правда, — сказал я, — совсем забыл, что у
них будут и кушанья. Ясно, что у них будет и соль, и маслины, и сыр,
и лук-порей, и овощи, и они будут варить какую-нибудь деревенскую
похлебку. Мы добавим им и лакомства: смоквы, горошек, бобы; плоды
мирты и буковые орехи они будут жарить на огне и н меру запивать
вином. Так проведут они жизнь в мире и здоровье и, достигнув, по
всей вероятности, глубокой старости, скончаются, завещав своим
потомкам такой же образ жизни.
— Если бы, Сократ, — возразил Главкон, —
устраиваемое тобой государство состояло из свиней, какого, как не
этого, задал бы ты им корму?
— Но что же иное требуется, Главкон?
— То, что обычно принято: возлежать на ложах,
обедать за столом, есть те кушанья и лакомства, которые имеют
нынешние люди — вот что, по-моему, нужно, чтобы не страдать от
лишений.
— Хорошо, — сказал я, — понимаю. Мы, вероятно,
рассматриваем не только возникающее государство, но и государство,
живущее в изобилии. Может быть, это и неплохо. Ведь, рассматривая и
такое государство, мы, вполне возможно, заметим, каким образом в
государствах возникает справедливость и несправедливость. То
государство, которое мы разобрали, представляется мне подлинным, то
есть здоровым. Если вы хотите, ничто не мешает нам присмотреться и к
государству, которое лихорадит. 373В самом
деле, иных, по-видимому, не удовлетворит все это и такой простой
образ жизни — им подавай и ложа, и столы, и разную утварь, и
кушанья, мази и благовония, а также гетер, вкусные пироги, да чтобы
всего этого было побольше. Выходит, что необходимым надо считать уже
не то, о чем мы говорили вначале, — дома, обувь, одежду, нет,
подавай нам картины и украшения, золото и слоновую кость: все это
нам нужно. Не правда ли?
— Да.
— Так не придется ли увеличить это государство?
То, здоровое, государство уже недостаточно, его надо заполнить кучей
такого народа, присутствие которого в государстве не вызвано никакой
необходимостью: таковы, например, всевозможные охотники25,
а также подражатели — их много по части рисунков и красок, много и в
мусическом искусстве: поэты и их исполнители, рапсоды, актеры,
хоревты, подрядчики, мастера различной утвари, изделий всякого рода
и женских уборов. Понадобится побольше и посредников: разве,
по-твоему, не нужны будут там наставники детей, кормилицы,
воспитатели, служанки, цирюльники, а также кулинары и повара?
Понадобятся нам и свинопасы. Этого не было у нас в том,
первоначальном государстве, потому что ничего такого не требовалось.
А в этом государстве понадобится и это, да и множество всякого
скота, раз идет в пищу мясо. Не так ли?
— Конечно.
— Потребность во врачах будет у нас при таком
образе жизни гораздо больше, чем прежде.
— Много больше.
— Да и страна, тогда достаточная, чтобы
прокормить население, теперь станет мала. Или как мы скажем?
— Именно так.
— Значит, нам придется отрезать часть от соседней
страны, если мы намерены иметь достаточно пастбищ и пашен, а нашим
соседям в свою очередь захочется отхватить часть от нашей страны,
если они тоже пустятся в бесконечное стяжательство, перейдя границы
необходимого.
— Это совершенно неизбежно, Сократ.
— В результате мы будем воевать, Главкон, или как
с этим будет?
— Да, придется воевать.
— Пока мы еще ничего не станем говорить о том,
влечет ли за собой война зло или благо, скажем только, что мы
открыли происхождение войны — главный источник частных и
общественных бед, когда она ведется.
— Конечно.
— Вдобавок, друг мой, придется увеличить наше
государство не на какой-то пустяк, а на целое войско: оно выступит
на защиту всего достояния, на защиту 374того,
о чем мы теперь говорили, и будет отражать нападение.
— Как так? Разве мы сами к этому не способны?
— Не способны, если ты и все мы правильно решили
этот вопрос, когда строили наше воображаемое государство. Решили же
мы, если ты помнишь, что невозможно одному человеку с успехом
владеть многими искусствами.
— Ты прав.
— Что же? Разве, по-твоему, военные действия не
требуют искусства?
— И даже очень.
— Разве надо больше беспокоиться о сапожном, чем
о военном, искусстве?
— Ни в коем случае.
— Чтобы у нас успешное шло сапожное дело, мы
запретили сапожнику даже пытаться стать земледельцем, или ткачом,
или домостроителем; так же точно и всякому другому мы поручили
только одно дело, к которому он годится по своим природным задаткам:
этим он и будет заниматься всю жизнь, не отвлекаясь ни на что
другое, и достигнет успеха, если не упустит время. А разве не важно
хорошее выполнение всего, что относится к военному делу? Или оно
настолько легко, что земледелец, сапожник, любой другой ремесленник
может быть вместе с тем и воином? Прилично играть в шашки или в
кости никто не научится, если не занимался этим с детства, а играл
так, между прочим. Неужели же стоит только взять щит или другое
оружие и запастись военным снаряжением — и сразу станешь способен
сражаться, будь то в битве тяжело вооруженных или в какой-либо иной?
Никакое орудие только оттого, что оно очутилось в чьих-либо руках,
никого не сделает сразу мастером или атлетом и будет бесполезно,
если человек не умеет с ним обращаться и недостаточно упражнялся.
— Иначе этим орудиям и цены бы не было!
[Роль сословия стражей в идеальном
государстве]
— Значит, чем более важно дело стражей, тем более
оно несовместимо с другими занятиями, — ведь оно требует мастерства
и величайшего старания.
— Думаю, что это так.
— Для этого занятия требуется иметь
соответствующие природные задатки.
— Конечно.
— Пожалуй, если только мы в состоянии, нашим
делом было бы отобрать тех, кто по своим природным свойствам годен
для охраны государства.
— Конечно, это наше дело.
— Клянусь Зевсом, нелегкий предмет мы себе
облюбовали! Все же, насколько хватит сил, не надо поддаваться
робости.
— Разумеется, не надо.
375— Как, по-твоему, в
деле охраны есть ли разница между природными свойствами породистого
щенка и юноши хорошего происхождения?
— О каких свойствах ты говоришь?
— И тот и другой должны остро воспринимать, живо
преследовать то, что заметят, и, если настигнут, с силой сражаться.
— Все это действительно нужно.
— И чтобы хорошо сражаться, надо быть
мужественным.
— Как же иначе?
— А захочет ли быть мужественным тот, в ком нет
яростного духа — будь то конь, собака или другое какое животное?
Разве ты не заметил, как неодолим и непобедим яростный дух: когда он
есть, любая душа ничего не страшится и ни перед чем не отступает?
— Заметил.
— Итак, ясно, какими должны быть телесные
свойства такого стража.
— Да.
— Тоже и душевные свойства, то есть яростный дух.
— И это ясно.
— Однако, Главкон, если стражи таковы по своей
природе, не будут ли они свирепыми и друг с другом, и с остальными
согражданами?
— Клянусь Зевсом, на это нелегко ответить.
— А между тем они должны быть кроткими к своим
людям и грозными для неприятеля. В противном случае им не придется
ждать, чтобы их истребил кто-нибудь другой: они сами это сделают и
погубят себя.
— Правда.
— Как же нам быть? Где мы найдем нрав и кроткий,
и вместе с тем отважный? Ведь кроткий нрав противоположен ярости
духа.
— Это очевидно.
— Если же у кого-нибудь нет ни того ни другого,
он не может стать хорошим стражем. Похоже, что это требование
невыполнимо, и, таким образом, выходит, что хорошим стражем стать
невозможно.
— Пожалуй, что так, — сказал Главкон.
Я находился в затруднении и мысленно перебирал
сказанное ранее.
— Мы, друг мой, — заметил я, — справедливо
недоумеваем, потому что мы отклонились от того образа, который сами
предложили.
— Что ты имеешь в виду?
— Мы не сообразили, что бывают характеры, о
которых мы и не подумали, а между тем в них имеются эти
противоположные свойства.
— В каких же характерах?
— Это замечается и в других животных, но всего
лучше в том из них, которое мы сравнили с нашим стражем. Ты ведь
знаешь насчет породистых собак, что их свойство — быть как нельзя
более кроткими с теми, к кому они привыкли и кого знают, но с
незнакомыми — как раз наоборот.
— Знаю, конечно.
— Стало быть, это возможно, и поиски таких
свойств в страже не противоречат природе.
— По-видимому, нет.
— Не кажется ли тебе, что будущий страж нуждается
еще вот в чем: мало того, что он яростен — он должен по своей
природе еще и стремиться к мудрости.
— Как это? Мне непонятно.
376— И эту черту ты тоже
заметишь в собаках, что очень удивительно в животном.
— Что именно?
— Увидав незнакомого, собака злится, хотя он се
ничем еще не обидел, а увидав знакомого — ласкается, хотя он никогда
не сделал ей ничего хорошего. Тебя это не поражало?
— Я до сих пор не слишком обращал на это
внимание, но ясно, что собака ведет себя именно так.
— Это свойство ее природы представляется
замечательным и даже подлинно философским.
— Как так?
— Да так, что о дружественности или враждебности
человека, которого она видит, собака заключает по тому, знает ли она
его или нет. Разве в этом нет стремления познавать, когда
определение близкого или, напротив, чужого делается на основе
понимания либо, наоборот, непонимания?
— Этого нельзя отрицать.
— А ведь стремление познавать и стремление к
мудрости — это одно и то же.
— Да, одно и то же.
— Значит, мы смело можем допустить то же самое и
у человека: если он будет кротким со своими близкими и знакомыми,
значит, он но своей природе должен иметь стремление к мудрости и
познанию.
— Допустим это.
— Итак. безупречный страж государства будет у нас
по своей природе обладать и стремлением к мудрости, и стремлением
познавать, а также будет проворным и сильным.
— Совершенно верно.
— Таким пусть и будет. Но как нам выращивать и
воспитывать стражей? Рассмотрение этого будет ли у нас
способствовать тому, ради чего мы всё и рассматриваем, то есть
заметим ли мы, каким образом возникают в обществе справедливость и
несправедливость? Как бы нам не упустить цели нашей беседы и не
сделать ее слишком пространной.
На это брат Главкона сказал:
— Я по крайней мере ожидаю, что это рассмотрение
будет очень кстати для нашей задачи.
— Клянусь Зевсом, милый Адимант, — сказал я, —
значит, не стоит бросать это рассмотрение, даже если оно окажется
длинным.
— Да, не стоит.
— Так давай, не торопясь, как делают это
повествователи, займемся — пусть на словах — воспитанием этих людей.
— Это необходимо сделать.
[Двоякое воспитание стражей мусическое и
гимнастическое]
— Каким же будет воспитание? Впрочем, трудно
найти лучше того, которое найдено с самых давнишних времен. Для тела
— это гимнастическое воспитание, а для души -мусическое26
— Да, это так.
— И воспитание мусическое будет у нас
предшествовать гимнастическому.
— Почему бы и нет?
— Говоря о мусическом воспитании, ты включаешь в
пего словесность, не правда ли?
— Я — да.
[Два вида словесности: истинный и ложный.
Роль мифов в воспитании стражей]
— В словесности же есть два вида: один —
истинный, а другой — ложный?
— Да.
377— И воспитывать надо
в обоих видах, но сперва — в ложном?
— Вовсе не понимаю, о чем это ты говоришь.
— Ты не понимаешь, что малым детям мы сперва
рассказываем мифы? Это, вообще говоря, ложь, но есть них и истина.
Имея дело с детьми, мы к мифам прибегаем. раньше, чем к
гимнастическим упражнениям.
— Да, это так.
— Потому-то я и говорил, что сперва надо
приниматься за мусическое искусство, а затем за гимнастическое.
— Правильно.
— Разве ты не знаешь, что во всяком деле самое
главное — это начало, в особенности если это касается чего-то юного
и нежного. Тогда всего более образуются и укореняются те черты,
которые кто-либо желает там запечатлеть.
— Совершенно верно.
— Разве можем мы так легко допустить, чтобы дети
слушали и воспринимали душой какие попало мифы, выдуманные кем
попало и большей частью противоречащие тем мнениям, которые, как мы
считаем, должны быть у них, когда они повзрослеют?
— Мы этого ни в коем случае не допустим.
— Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за
творцами мифов: если их произведение хорошо, мы допустим его, если
же нет — отвергнем. Мы уговорим воспитательниц и матерей
рассказывать детям лишь признанные мифы, чтобы с их помощью
формировать души детей скорее, чем их тела — руками. А большинство
мифов, которые они теперь рассказывают, надо отбросить.
— Какие именно?
— По более значительным мифам мы сможем судить и
о мелких: ведь и крупные, и мелкие должны иметь одинаковые черты и
одинаковую силу воздействия. Или ты не согласен?
— Согласен, но я не понимаю, о каких более
значительных мифах ты говоришь?
— О тех, которые рассказывали Гесиод, Гомер и
остальные поэты. Составив для людей лживые сказания, они стали им их
рассказывать, да и до сих пор рассказывают27.
—Какие же? И что ты им ставишь в упрек?
— То, за что прежде всего и главным образом
следует упрекнуть, в особенности если чей-либо вымысел неудачен.
— Как это?
— Когда кто-нибудь, говоря о богах и героях,
отрицательно изобразит их свойства, это вроде того, как если бы
художник нарисовал нисколько не похожими тех, чье подобие он хотел
изобразить.
— Такого рода упрек правилен, но что мы под этим
понимаем?
— Прежде всего величайшую ложь и о самом великом
неудачно выдумал тот, кто сказал, будто Уран совершил поступок,
упоминаемый Гесиодом, и будто Кронос ему отомстил. О делах же
Кроноса и о мучениях, перенесенных им от сына, даже если бы это было
верно, 378я не считал бы нужным с такой
легкостью рассказывать тем, кто еще неразумен и молод, — гораздо
лучше обходить это молчанием, а если уж и нужно почему-либо
рассказать, так пусть лишь весьма немногие втайне выслушают это,
принеся в жертву не поросенка, но великое и труднодоступное
приношение, чтобы лишь совсем мало кому довелось услышать рассказ28
— В самом деле, рассказы об этом затруднительны.
— Да их и не следует рассказывать, Адимант, в
нашем государстве. Нельзя рассказывать юному слушателю, что,
поступая крайне несправедливо, он не совершает ничего особенного,
даже если он любым образом карает своего совершившего проступок
отца, и что он просто делает то же самое, что и первые, величайшие
боги.
— Клянусь Зевсом, мне и самому кажется, что не
годится говорить об этом.
— И вообще о том, как боги воюют с богами, строят
козни, сражаются—да это и неверно; ведь те, кому предстоит стоять у
нас на страже государства, должны считать величайшим позором, если
так легко возникает взаимная вражда. Вовсе не следует излагать и
расписывать битвы гигантов и разные другие многочисленные раздоры
богов и героев с их родственниками и низкими —напротив, если мы
намерены внушить убеждение, что никогда никто из граждан не питал
вражды к другому и что это было бы нечестиво, то об этом-то и должны
сразу же и побольше рассказывать детям и старики, и старухи, да и
потом, когда дети подрастут; и поэтов надо заставить не отклоняться
от этого в своем творчестве. А о том, что на Геру наложил оковы ее
сын, Гефест, который был сброшен с Олимпа своим отцом, хотевшим
заступиться за избиваемую жену, или о битвах богов, сочиненных
Гомером,—такие рассказы недопустимы в пашем государстве, все равно
сочинены ли они с намеком или без него29.
Ребенок не в состоянии судить, где содержится иносказание, а где
нет, и мнения, воспринятые им в таком раннем возрасте, обычно
становятся неизгладимыми и неизменными. Вот почему, пожалуй, всего
более надо добиваться, чтобы первые мифы, услышанные детьми, самым
заботливым образом были направлены к добродетели.
— Это имеет свое основание. Но если кто и об этом
спросит нас, что это за мифы и о чем они, какие мифы могли бы мы
назвать?
379— Адимант, — сказал
я, — мы с тобой сейчас не поэты, а основатели государства. Не дело
основателей самим творить мифы—им достаточно знать, какими должны
быть основные черты поэтического творчества, и не допускать их
искажения.
— Верно. Но вот это — основные черты, каковы они
в учении о богах?
— Да хотя бы так: каков бог, таким его всегда и
надо изображать, выведен ли он в эпической поэзии, в мелической или
в трагедии.
— Да, так и надо поступать.
— Разве бог не благ по существу и разве не это
нужно о нем утверждать?
— Как же иначе?
— Но ведь никакое благо не вредоносно, не так ли?
— По-моему, так.
— А то, что не вредоносно, разве вредит?
— Никоим образом.
— А то, что не вредит, творит разве какое-нибудь
зло?
— Тоже нет,
— А то, что не творит никакого зла, не может быть
и причиной какого-либо зла?
— Но как же могло бы это быть?
— Так что же? Благо — полезно?
— Да,
— Значит, оно — причина правильного образа
действий?
— Да.
— Значит, благо—причина не всяких действий, а
только правильных? В зле оно неповинно.
— Безусловно.
— Значит, и бог, раз он благ, не может быть
причиной всего вопреки утверждению большинства. Он причина лишь
немногого для людей, а во многом он неповинен: ведь у нас гораздо
меньше хорошего, чем плохого. Причиной блага нельзя считать никого
другого, но для зла надо искать какие-то иные причины, только не
бога.
— Ты, по-моему, совершенно прав.
— Значит, нельзя принять эти заблуждения Гомера
или другого поэта относительно богов: Гомер безрассудно
заблуждается, говоря, что два больших сосуда
в Зевсовом доме великом,
Полны даров счастливых — один, а другой — несчастливых,
и кому Зевс дает смешанно из обоих, тот
В жизни своей переменно то горе находит, то
радость,
а кому несмешанно, только из второго сосуда, то
Бешеный голод его по земле божественной гонит
30.
Также неверно, будто Зевс у нас подателем
Благ, но также и зла оказался31
Мы не одобрим, если кто скажет, что Афина и Зевс
побудили Пандара нарушить клятвы и договоры32.
То же самое и относительно битвы богов и их распри, вызванной
Фемидой и Зевсом33.
380Опять-таки нельзя позволить юношам
слушать то, что говорит Эсхил:
Причину смертным бог родит,
Когда чей-либо дом желает истребить
34.
Если в каком-либо произведении встретятся такие
ямбические стихи и будут описаны страдания Ниобы или Пелопидов35,
или события Троянской войны, или что-нибудь в этом роде, то надо
либо не признавать все этo делом божьим, либо, если это дело божье,
вскрыть здесь примерно тот смысл, который мы сейчас отыскиваем, и
утверждать, что бог вершит лишь справедливое и благое, а кара,
постигающая этих людей, им же на пользу. Но нельзя позволить
утверждать поэту, будто они бедствуют, подвергаясь наказанию, и
благое, а кара, постигающая этих людей, им же на пользу. Но нельзя
позволить утверждать поэту, будто они бедствуют, подвергаясь
наказанию, а тот, от кого ; это зависит,—бог. Однако, если бы поэты
сказали, что люди эти нуждались в каре и что бедствуют только
порочные, которые, подвергаясь наказанию, извлекают для себя пользу
от бога, это можно допустить. Но когда говорят, что бог, будучи
благим, становится для кого-нибудь источником зла, с этим всячески
надо бороться: никто — ни юноша, ни взрослый, если он стремится к
законности в своем государстве, — не должен ни говорить об этом, ни
слушать ни в стихотворном, ни в прозаическом изложении, потому что
такое утверждение нечестиво, не полезно нам и содержит в самом себе
неувязку.
— Я голосую вместе с тобой за этот закон — он мне
нравится.
— Это был бы один из законов и одно из
предначертаний относительно богов: сообразно с ним и в речах, и в
поэтических произведениях следует утверждать, что бог — причина не
всего, а только блага.
— Это вполне удовлетворяет.
— А как насчет второго закона? Разве, по-твоему,
бог — волшебник и словно нарочно является то в одних, то в других
видах: то он сам меняется, принимая вместо своего облика различные
другие формы, то лишь нас вводит в заблуждение, заставляя нас мнить
о себе временами одно, временами другое? Или бог есть нечто простое
и он всего менее выходит за пределы своей формы?
— Я не могу так сразу на это ответить.
— А на это: если что-нибудь выходит за пределы
своей формы, необходимо ли, чтобы оно изменялось либо само собой,
либо под воздействием чего-либо другого?
— Необходимо.
— Но то, что находится в наилучшем состоянии,
менее всего изменяется под воздействием другого. Разве, например, не
меньше всего поддается изменениям отличающееся здоровьем и силой
тело под воздействием пищи, питья, трудов? Или же любое растение —
под воздействием солнечного тепла, ветра и т. д.?
— Конечно, меньше всего.
— И душу — по крайней мере наиболее мужественную
и разумную — всего меньше расстроит и изменит какое-либо внешнее
воздействие.
— Да.
— Даже и всякие составные вещи — утварь,
постройки, одежда, если они хорошо сделаны и содержатся в порядке,
на том же самом основании меньше всего изменяются под влиянием
времени и других воздействий.
— Это так.
— Все, что хорошо от природы или благодаря
искусству, а также благодаря тому и другому, меньше всего подвержено
изменению под воздействием иного.
— По-видимому.
— Но ведь бог и то, что с ним сопряжено, это во
всех отношениях наилучшее.
— Конечно.
— По этой причине бог всего менее должен
принимать различные формы.
— Именно: всего менее.
— Разве что он сам себя превращает и изменяет?
— Очевидно, если только он изменяется.
— Превращает ли он себя в нечто лучшее и более
прекрасное или в нечто худшее и безобразное?
— Неизбежно, что в худшее, если только он
изменяется. Ведь мы не скажем, что бог испытывает недостаток в
красоте и добродетели.
— Ты совершенно прав. Но раз это так, считаешь ли
ты, Адимант, что кто-либо, будь это бог или человек, добровольно
сделает себя худшим в каком-нибудь отношении?
— Это невозможно.
— Значит, невозможно и то, чтобы бог пожелал
изменить самого себя; но, очевидно, каждый из богов, будучи в высшей
степени прекрасным и превосходным — насколько лишь это возможно, —
пребывает попросту всегда в своей собственной форме.
— По-моему, это совершенно необходимо.
— Так пусть никто из поэтов, друг мой, не
рассказывает нам, будто
Боги нередко, облекшися в образ людей
чужестранных,
Входят в чужие жилища...36
И пусть никто не возводит напраслины на Протея и
Фетиду37,
и в трагедиях и разных других сочинениях пусть не выводят Геру,
превратившуюся в жрицу, собирающую подаяние для
Инаха жизнедающих детей — сыновей Аргоссца
речного
38,
и пусть вообще не выдумывают подобной лжи. В свою
очередь и матери не должны, поверив им, пугать детей россказнями,
будто какие-то боги бродят по ночам под видом разных чужестранцев —
это хула на богов, да и дети делаются от этого боязливыми.
— Да, этого нельзя допускать.
— Значит, сами боги не изменяются. Но может быть,
они колдовством вводят нас в обман, внушая нам представления о
различных своих обличьях?
— Может быть.
382— Что же? Пожелает ли
бог лгать, выставляя перед нами — на словах ли или на деле — всего
лишь призрак?
— Не знаю.
— Ты не знаешь, что подлинную ложь — если можно
так выразиться — ненавидят все боги и люди?!
— Как, как ты говоришь?
— Так, что относительно самого для себя важного и
о самых важных предметах никто не пожелает никого добровольно
вводить в обман или обмануться сам — тут всякий всего более
остерегается лжи.
— Я все еще не понимаю.
— Ты думаешь, я высказываю что-то особенное? Я
говорю только, что вводить свою душу в обман относительно
действительности, оставлять ее в заблуждении и самому быть
невежественным и проникнутым ложью — это ни для кого не приемлемо:
здесь всем крайне ненавистна ложь.
— И весьма даже.
— Так вот то, о чем я только что сказал, можно с
полным правом назвать подлинной ложью: это укоренившееся в душе
невежество, свойственное человеку, введенному в заблуждение. А
словесная ложь — это еуже воспроизведение
душевного состояния, последующее его отображение, и это-то уж не
будет беспримесной ложью в чистом виде. Разве не так?
— Конечно, так.
— Действительная ложь ненавистна не только богам,
но и людям.
— По-моему, да.
— Так что же? Словесная ложь бывает ли иной раз
для чего-нибудь и полезна, так что не стоит ее ненавидеть? Например,
по отношению к неприятелю и так называемым друзьям? Если в
исступлении или безумии они пытаются совершить что-нибудь плохое, не
будет ли ложь полезным средством, чтобы удержать их? Да и в тех
преданиях, о которых мы только что говорили, не делаем ли мы ложь
полезной, когда как можно более уподобляем ее истине, раз уж мы не
знаем, как это все было на самом деле в древности?
39
— Конечно, все это так.
— Но в каком же из этих отношений могла бы ложь
быть полезной богу? Может быть, не имея сведений о древних временах,
он обманывает с помощью уподобления?
— Это было бы просто смешно.
— Значит, в боге не живет лживый поэт.
— По-моему, так.
— А стал бы бог обманывать из страха перед
врагами?
— Это никак не может быть.
— А из-за неразумия или помешательства своих
близких?
— Никакой неразумный или помешанный не мил богу.
— Значит, нет ничего, ради чего бы он стал
обманывать.
— Ничего.
— Значит, любому божественному началу ложь чужда.
— Совершенно чужда.
— Значит, бог — это, конечно, нечто простое и
правдивое и на деле, и в слове; он и сам не изменяется и других не
вводит в заблуждение ни на словах, ни посылая знамения — ни наяву,
ни во сне.
383— Мне и самому это
становится ясным из твоих слов.
— Значит, ты соглашаешься, что обязательным и для
рассуждений, и для творчества, если они касаются богов, будет у нас
этот второй образец: боги не колдуны, чтобы изменять свой вид и
вводить нас в обман словом ли или делом.
— Согласен.
— Значит, многое одобряя у Гомера, мы, однако, не
одобрим того сновидения, которое Зевс послал Агамемнону
40; не одобрим мы и того места Эсхила, где Фетида
говорит, что Аполлон пел на ее свадьбе, суля ей счастье в детях:
Болезни их минуют, долог будет век —
Твоя судьба, сказал он, дорога богам.
Такою песнью он меня приветствовал.
Надеялася я, что ложь чужда устам
Божественным и Феба прорицаниям.
Так пел он сам, на пире сам присутствовал,
Сам так предрек и сам же он убийцей стал
Мне сына моего41.
сКогда кто станет
говорить подобные вещи о богах, он вызовет у нас негодование, мы не
дадим ему хора, и не позволим учителям пользоваться такими
сочинениями при воспитании юношества, так как стражи должны у нас
быть благочестивыми и божественными, насколько это под силу человеку.
—Я вполне согласен с этими предначертаниями и
готов пользоваться ими как законами.
Примечания Тахо-Годи.
1 О платоновском понимании
полезного и его отличии от пригодного см. т. 1, прим.
31 к диалогу "Гиппий больший".
2 Идея общественного
договора, основанного на взаимном согласии людей, а не
обусловленного природой, была широко распространена в античности у
досократиков — атомистов и софистов. Согласно этой теории, всякое
законодательство — продукт искусства, все боги "существуют не по
природе, а вследствие искусства и в силу некоторых законов",
прекрасным же "по природе является одно, а по закону — другое", "справедливого
же вовсе нет по природе" ("Законы", 889е — 890а).
3 Геродот рассказывает о
царе Гиге, сыне Даскила (VII в. до н. э.), в бытность
копьеносцем убившем Кандавла, своего господина, правителя Лидии, и
завладевшем его богатством, женой и царством (I 8-15). Кольцо Гига
Платон упоминает также в кн. X "Государства" (612b), сопоставляя его
способность делать человека невидимым со шлемом Аида у Гомера (II. V
845). Волшебное кольцо Гига и шапка Аида фигурируют также у Лукиана
(Bis accusatus, 21).
Платоновский Лид (здесь — отец
Гига), по Геродоту, — сын Атиса, эпоним лидийцев (I 7). Вполне
возможно, что Платон здесь, как это у него часто бывает, сам творит
миф, придавая ему глубокий нравственный смысл. О "многозлатом Гигесе"
знал Архилох (фр. 22 Diehl)
4 См. Эсхил. Семеро
против Фив, 592 (о прорицателе Амфиарае, одном из семерых вождей,
идущих па Фивы).
5 Эсхил. Семеро
против Фив, 593 сл. (также об Амфиарае).
6 Поговорка эта восходит к
Гомеру, у которого поток Скамандр (Ксанф) зовет на помощь своего
брата Симоента, чтобы одолеть Ахилла: "Милый мой брат! Хоть вдвоем
обуздаем неистовство мужа!" (Ил. XXI 308, перев. В. В.
Вересаева},
7 Гесиод. Труды и дни,
233 сл.
8 Гомер. Од. XIX
109-113.
9 Myсей и его сын, а
может быть и отец, Евмолп — мифические певцы. Мусей обычно
фигурирует в качестве учителя или ученика Орфея. В именах этих
певцов ясно чувствуется персонификация одного из видов искусств —
пения.
10 Здесь явная насмешка над
некоторыми аспектами орфических представлений о загробной жизни. Ср.
у Плутарха (Сomp. Cim. et Lucull. 1).
11 По преданию, Данаиды,
убившие своих мужей, были осуждены вечно лить воду в бездонные
амфоры (ср. намек на это у Горация, Саrm. III 11, 22-24).
12 У Солона читаем: "много
дурных людей обогащается, а хороших — страдает" (фр. 4, 9 Diehl).
Феогнид восклицает (377-380):
Как же, Кронид, допускает душа твоя, чтоб
нечестивцы
Участь имели одну с теми, кто правду блюдет,
Чтобы равны тебе были разумный душой и надменный,
В несправедливых делах жизнь проводящий свою?
13 Платон в "Законах" пишет
о вроде, который люди наносят "при помощи ворожбы, зачаровывающих
песен и так называемых пут" (XII 933а).—-139.
14 Гесиод. Труды и
дни, 287-290.
15 Это слова старца Феникса,
обращенные к Ахиллу, остававшемуся неумолимым в ответ на просьбы
ахейских послов (Гомер. Ил. IX 497-501).
16 О Мусее и Орфее
см. выше, прим. 9, а также т. 1, "Апология Сократа", прим. 52, н
"Ион", прим. 25. Первые упоминания об Орфее относятся к VI в.
до н. э. (Ивик, фр. 27 D: "славно именитый Орфей"). Пиндар (Pyth. IV
176 Sn.) называет его "прославленным отцом песен". Геродот (II 81)
знает об орфических таинствах наряду с пифагорейскими и
вакхическими. Родина Орфея — фессалийская Пиерия у Олимпа, где,
согласно мифам, обитали Музы. По другой версии, он родился во Фракии
от Музы Каллиопы и царя Эагра. Аристотель (фр. 9 Rose) прямо отрицал
существование поэта Орфея, в то время как софист Гиппий считал его
предшественником Гомера и Гесиода (86 В 6 D).
Орфею приписывали теогоническую поэму в 24
песни, так называемые "Священные слова"; отрывки из этой поэмы
помещены в известном издании О. Керна (Orphicorum
fragmenta. Berlin, 1922). Сборник "Орфические гимны" содержит гимны
с VI в. до н. э. и кончая первыми веками н. э.
17 Здесь имеются в виду
орфики и их таинства. См. т. 1, "Горгий", прим. 82.
18 Пиндар, фр. 213
Sn.
19 Эти слова принадлежат
поэту Симониду Кеосскому (фр. 55 Diehl). -140.
20 Архилоху, знаменитому
ямбографу VII—VI вв. до п. э., принадлежат две стихотворные басни о
лисице и обезьяне (фр. 81 Diehl, а также фр. 88-95), которые
подразумевают личные отношения Архилоха и Ликамба, отца его
возлюбленной Необулы, вероломно обманувшего поэта. Обе басни
известны в пересказе Эзопа (I 1, 14, см. в изд.: Corpus fabularum
Aesopicarum, I, 1 of)., A. Hausrath. Lips., 1957; см. также "Басни
Эзопа", перев. стать") и комм. М. Л. Гаспарова. М., 1968).
21 Крупнейшие государства:
имеются в виду Афины, особенно чтившие элевсинские мистерии; дети
богов — Мусой и Орфей.
22 Смысл этой эпиграммы:
Главкон и Адимант — "дети Аристона", буквально "лучшего
человека", и отличаются в споре так же, как в сражении под Мегарой
(409 или 405 г. до н. э.), о чем и написал некий поклонник Главкона
(по одной из догадок это, может быть, Критий, хотя в дошедших до нас
его элегических фрагментах таких строк нет).—143.
23 Возникновение государства
в связи с необходимостью удовлетворить потребности человека
рассматривается Платоном также в "Законах", где исторический план
повествования перемежается с легендарными представлениями о
катастрофах, потопах, завоеваниях, замедливших развитие
человечества, по вместе с тем способствовавших объединению людей в
общества с установленными законами (III 676а—682е).
Аристотель в "Политике" критикует Платона
и Сократа с их государством, основанным на объединении классов
ремесленников и земледельцев, удовлетворяющих нужды общества.
Аристотель утверждает, что "все эти классы, по мнению Сократа,
заполняют собою "первое" государство, как будто вечное государство
образуется лишь ради удовлетворения насущных потребностей, а не
имеет предпочтительно своею целью достижение прекрасного
существования" (Polit. IV 3, 12, 1291а 10-19). Совершенно очевидно,
что Аристотель напрасно сетует здесь на Платона, так как Платон
разделяет причину возникновения государства и цель, для которой оно
создано. Вряд ли Платон отрицал "прекрасное существование" (конечно,
понимаемое как высшее благо, а не чисто прагматически и
утилитарно) в качестве цели государства.
Об аристотелевской теории государства в
связи с Платоном см. Д. Well. Aristote et 1'histoire. Essai sur la
Politique. Paris, 1960, стр. 327-339.
24 Если еще Гомером было
замечено, что "люди несходны, те любят одно, а другие'—другое" (Од.
XIV 228), то Ксенофонтов Сократ не только подтверждает отличие людей
"по природе", но также их значительный прогресс благодаря упражнению
"в той области, в которой хотят стать известной величиной" (Mem. Ill
9, 3).—146.
25 Охотники: это
можно понимать в прямом смысле (ср. "Законы", 823b — об охоте на
разных зверей и птиц, а также об охоте на людей во время войны) либо
в переносном, как в диалоге "Софист", где дается определение софиста
в виде рыболова, поддевающего своих собеседников на крючок ложной
мудрости (221 d-e).
Сам Сократ, по Ксенофонту, тоже считает
себя опытным в "охоте за людьми" и советует Критобулу "быть хорошим
человеком" и "ловить нравственных людей" (Xen. Mem. II, 6, 28— 29).
26 О двух типах воспитания
см. т. 1, "Критон", 50 d — e и прим. 13.
27 Критику Гомера и Гесиода
мы находим уже у досократиков. Особенно был известен в этом
отношении элеат Ксенофан Колофонский, "порицавший обманщика Гомера"
(А 1 D) и считавший, что "одинаково нечестиво поступают как те,
которые утверждают, что боги родились, так и те, кто говорит, что
боги умерли" (А 11 D).
По словам Ксенофана, Гомер и Гесиод
"весьма много беззаконных дел рассказали о богах: воровство,
прелюбодеяния и взаимный обман" (В 12). В своей известной 1-й элегии
он утверждал, что "не должно воспевать сражений титанов, гигантов и
кентавров—вымысел прежних времен" (В 1).
28 Здесь имеется в виду
узкий круг посвященных в мистерии, быть может в элевсинские, на
которых приносили в жертву поросенка.
История оскопления Урана Кроносом и
низвержения Кроноса в Тартар его сыном Зевсом красочно описана у
Гесиода (Theog. 154-210, 452-505). Этот миф причислялся Ксенофаном к
"беззакониям" Гесиода (В 12).
29 О битве титанов с
олимпийцами см. у Гесиода (Theog. 674-735); о битве богов — у Гомера
(II. XX 1-75; XXI 385-514).
Что касается намека, о котором здесь идет
речь, то, видимо, имеются в виду аллегорические толкования Гомера
Гераклидом Понтпйским и другими авторами.
30 Гомер. Ил. XXIV
527-533.
31 В этой строке
неизвестного происхождения содержится мысль, близкая Гесиоду и
Пиндару. У Гесиода читаем о богах, что "в руке их кончина людей, и
дурных и хороших". У Пиндара — что "Зевс уделяет и то и другое, Зевс
— владыка всего" (Isthm. V 52, сл. Sn.).
32 О нарушении клятв
Пандаром и его коварном выстреле см. Гомер. Ил. IV
68-126.—759.
33 Решение Зевса уничтожить
по просьбе матери-Земли человеческий род в Троянской войне (отзвук
этого мы находим в "Илиаде", I 5) было принято им совместно с
Фемидой (см. Ргосli chrestomat., p. 102, 13 Alien), бывшей некогда
(по словам Пиндара) "древней супругой Зевса", "благосоветной",
"небесной" (фр. 30 Sn.).
34 Эсхил, фр. 156 N.-Sn.
(трагедия "Ниоба").—159.
35 Ниоба, гордившаяся
своими многочисленными сыновьями и дочерьми, потеряла их из-за
зависти богов Аполлона и Артемиды, убивших всех ее детей (Ovid. Met.
VI 146-312).
Пелопиды — потомки царя Пелопса,
испытавшие на себе проклятие Зевса и вероломно убитого Пелопсом
возничего Мир-тила. История Пелопидов, или Атридов (Атрей—сын
Пелопса), стала предметом многих греческих трагедий (Эсхил —
"Орестея";
Софокл—"Электра"; Еврипид—"Электра",
"Орест" и др.).—159.
36 Гомер. Од. XIII
485 сл.—161.
37 Протей — см. т. 1,
прим. 35 к диалогу "Ион". Фетида — дочь Нерея, морская богиня,
супруга смертного героя Пелея и мать Ахилла. Она, как и Протей, была
наделена даром бесконечных превращений (подобно самому морю — родной
стихии обоих богов) .
38 Схолиаст к "Лягушкам"
Аристофана (ст. 1344) относит эти стихи к одной из драм Эсхила (фр.
168 N.-Sn.). Дочь Инаха, Ио, возлюбленная Зевса, была жрицей Геры.
39 Относительное
представление о правде и лжи было широко распространено в Греции. У
Геродота прямо говорится: "Где ложь нужна, там следует лгать. Ведь
цель правды и лжи одна и та же. Одни лгут в расчете убедить ложью и
извлечь из того пользу, другие говорят правду для того, чтобы
правдивостью добыть корысть и внушить к себе больше доверия, таким
образом, в обоих случаях мы преследуем одну и ту же цель, хотя и
различными средствами" (III 72). Софокл говорит: "Нехорошо лгать, но
когда правда ведет к страшной гибели, то извинительно и нехорошее" (фр.
326 N.-Sn.). У Аристотеля в "Никомаховой этике" читаем: "Говоря
безотносительно, ложь дурна и заслуживает порицания, истина же
прекрасна н похвальна", но "настоящему лжецу самая ложь правится", а
другим людям она нужна ради выгоды (IV 13, 1127а 28-1127b it).
40 Зевс послал Агамемнону
обманный сон, желая испытать твердость ахейского войска (Гомер. Ил.
II 1-41).
41 Согласно преданию,
Аполлон играл на форминге во время свадьбы Пелея и Фетиды, будучи
вместе с тем, по словам Геры, "всегда вероломным" (Гомер. Ил.
XXIV 62 ел.). Здесь цитируется фр. 350 из неустановленной трагедии
Эсхила.
далее