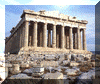Перевод А.Н. Егунова
Платон. С.с.
3-х т.Т3 (1). — М., 1971 г
Примечания А.А. Тахо-Годи
ГОСУДАРСТВО.7
[Символ пещеры]
(514)— После этого, —
сказал я, — ты можешь уподобить нашу человеческую природу в
отношении просвещенности и непросвещенности вот какому состоянию...
посмотри-ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие
пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у
них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места,
и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть
голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету,
исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и
узниками проходит верхняя дорога, огражденная — глянь-ка — невысокой
стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих
помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.
— Это я себе представляю.
— Так представь же себе и то, что за этой стеной
другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна
поверх стены; проносят они и статуи, и 515всяческие
изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом,
как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат.
— Странный ты рисуешь образ и странных узников!
— Подобных нам. Прежде всего разве ты думаешь,
что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или
чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними
стену пещеры?
— Как же им видеть что-то иное, раз всю свою
жизнь они вынуждены держать голову неподвижно?
— А предметы, которые проносят там, за стеной; Не
то же ли самое происходит и с ними?
— То есть?
— Если бы узники были в состоянии друг с другом
беседовать, разве, думаешь ты, не считали бы они, что дают названия
именно тому, что видят?
— Непременно так.
— Далее. Если бы в их темнице отдавалось эхом
все, что бы ни произнес любой из проходящих мимо, думаешь ты, они
приписали бы эти звуки чему-нибудь иному, а не проходящей тени?
— Клянусь Зевсом, я этого не думаю.
— Такие узники целиком и полностью принимали бы
за истину тени проносимых мимо предметов.
— Это совершенно неизбежно.
— Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия
и исцеление от него, иначе говоря, как бы это все у них происходило,
если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное.
Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят
его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх — в
сторону света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах
будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он
видел. раньше. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут
говорить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к
бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный
взгляд? Да еще если станут указывать на ту или иную мелькающую перед
ним вещь и задавать вопрос, что это такое, и вдобавок заставят его
отвечать! Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит и он
подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше,
чем в том, что ему показывают теперь?
— Конечно, он так подумает.
— А если заставить его смотреть прямо на самый
свет, разве не заболят у него глаза, и не вернется он бегом к тому,
что он в силах видеть, считая, что это действительно достовернее тех
вещей, которые ему показывают?
— Да, это так.
— Если же кто станет насильно тащить его по
крутизне вверх, в гору и не отпустит, пока не извлечет его на
солнечный свет, разве он не будет страдать и не возмутится таким
насилием? А когда бы он 516вышел на свет,
глаза его настолько были бы поражены сиянием, что он не мог бы
разглядеть ни одного предмета из тех, о подлинности которых ему
теперь говорят.
— Да, так сразу он этого бы не смог.
— Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть
все то, что там, наверху. Начинать надо с самого легкого: сперва
смотреть на тени, затем — на отражения в воде людей и различных
предметов, а уж потом — на самые вещи; при этом то, что на небе, и
самое небо ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть
смотреть на звездный свет и Луну, а не на Солнце и, его свет.
— Несомненно.
— И наконец, думаю я, этот человек был бы в
состоянии смотреть уже на самое Солнце, находящееся в его
собственной области, и усматривать его свойства, ; не ограничиваясь
наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других, ему
чуждых средах.
— Конечно, ему это станет доступно.
— И тогда уж он сделает вывод, что от Солнца
зависят и времена года, и течение лет, и что оно ведает всем в
видимом пространстве и оно же каким-то образом есть причина всего
того, что этот человек и другие узники видели раньше в пещере.
— Ясно, что он придет к такому выводу после тех
наблюдений.
— Так как же? Вспомнив свое прежнее жилище,
тамошнюю премудрость и сотоварищей по заключению, разве не сочтет он
блаженством перемену своего положения и разве не пожалеет своих
друзей?
— И даже очень.
— А если они воздавали там какие-нибудь почести и
хвалу друг другу, награждая того, кто отличался наиболее острым
зрением при наблюдении текущих мимо предметов и лучше других
запоминал, что обычно появлялось сперва, что после, а что и
одновременно, и на этом основании предсказывал грядущее, то, как ты
думаешь, жаждал бы всего этого тот, кто уже освободился от уз, и
разве завидовал бы он тем, кого почитают узники и кто среди них
влиятелен? Или он испы тывал бы то, о чем говорит Гомер, то есть
сильнейшим образом желал бы
как поденщик, работая в поле,
службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный1
и скорее терпеть что угодно, только бы не
разделять представлений узников и не жить так, как они?
— Я-то думаю, он предпочтет вытерпеть все что
угодно, чем жить так.
— Обдумай еще и вот что: если бы такой человек
опять спустился туда и сел бы на то же самое место, разве не были бы
его глаза охвачены мраком при таком внезапном уходе от света Солнца?
— Конечно.
— А если бы ему снова пришлось состязаться
517с этими вечными узниками, разбирая
значение тех теней? Пока его зрение не притупится и глаза не
привыкнут — а на это потребовалось бы немалое время, — разве не
казался бы он смешон? О нем стали бы говорить, что из своего
восхождения он вернулся с испорченным зрением, а значит, не стоит
даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы освобождать узников,
чтобы повести их ввысь, того разве они не убили бы, попадись он им в
руки?
— Непременно убили бы.
— Так вот, дорогой мой Главкон, это уподобление
следует применить ко всему, что было сказано ранее: область,
охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня
уподобляется в ней мощи Солнца. Восхождение и созерцание вещей,
находящихся в вышине, — это подъем души в область умопостигаемого.
Если ты все это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль — коль
скоро ты стремишься ее узнать, — а уж богу ведомо, верна ли она.
Итак, вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея блага — это
предел, и она с трудом различима, но стоит только ее там различить,
как отсюда напрашивается вывод, что именно она — причина всего
правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и
его владыку, а в области умопостигаемого она сама — владычица, от
которой зависят истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто
хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной
жизни.
— Я согласен с тобой, насколько мне это доступно.
— Тогда будь со мной заодно еще вот в чем: не
удивляйся, что пришедшие ко всему этому не хотят заниматься
человеческими делами; их души всегда стремятся ввысь. Да это и
естественно, поскольку соответствует нарисованной выше картине.
— Да, естественно.
[Созерцание божественных вещей
(справедливости самой по себе) и вещей человеческих]
— Что же? А удивительно разве, по-твоему, если
кто-нибудь, перейдя от божественных созерцании к человеческому
убожеству, выглядит неважно и кажется крайне смешным? Зрение еще не
привыкло, а между тем, прежде чем он привыкнет к окружающему мраку,
его заставляют выступать на суде или еще где-нибудь и сражаться по
поводу теней справедливости или изображений, отбрасывающих эти тени,
так что приходится спорить о них в том духе, как это воспринимают
люди, никогда не видавшие самое справедливость.
— Да, в этом нет ничего удивительного.
518— Всякий, кто
соображает, вспомнил бы, что есть два рода нарушения зрения, то есть
по двум причинам: либо когда переходят из света в темноту, либо из
темноты — на свет. То же самое происходит и с душой: это можно
понять, видя, что душа находится в замешательстве и не способна
что-либо разглядеть. Вместо того чтобы бессмысленно смеяться, лучше
понаблюдать, пришла ли эта душа из более светлой жизни и потому с
непривычки омрачилась, или же, наоборот, перейдя от полного
невежества к светлой жизни, она ослеплена ярким сиянием: такое ее
состояние и такую жизнь можно счесть блаженством, той же, первой
посочувствовать2.
Если, однако, при взгляде на нее кого-то все-таки разбирает смех,
пусть он меньше смеется над ней, чем над той, что явилась сверху, из
света.
— Ты очень правильно говоришь.
— Раз это верно, вот как должны мы думать об этих
душах: просвещенность — это совсем не то, что утверждают о ней
некоторые лица, заявляющие, будто в душе у человека нет знания и они
его туда вкладывают, вроде того как вложили бы в слепые глаза
зрение.
— Верно, они так утверждают.
— А это наше рассуждение показывает, что у
каждого в душе есть такая способность; есть у души и орудие,
помогающее каждому обучиться. Но .как глазу невозможно повернуться
от мрака к свету иначе чем вместе со всем телом, так же нужно
отвратиться всей душой ото всего становящегося: тогда способность
человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия и того, что в
нем всего ярче, а это, как мы утверждаем, и есть благо. Не правда
ли?
— Да.
[Искусство обращения человека к созерцанию
идей (эйдосов)]
— Как раз здесь и могло бы проявиться искусство
обращения — каким образом всего легче и действеннее можно обратить
человека: это вовсе не значит вложить в него способность видеть —
она у него уже имеется, но неверно направлена, и он смотрит не туда,
куда надо. Вот здесь-то и надо приложить силы.
— Видимо, так.
— Некоторые положительные свойства, относимые к
душе, очень близки, пожалуй, к таким же свойствам тела: в самом
деле, у человека сперва их может и не быть, они развиваются позднее
путем упражнения и евходят в привычку. Но
способность понимания, как видно, гораздо более божественного
происхождения; она никогда не теряет своей силы, но в зависимости от
направленности бывает то полезной и пригодной, то непригодной и даже
вредной. Разве ты не замечал 519у тех, кого
называют хотя и дурными людьми, но умными, как проницательна их
душонка и как они насквозь видят то, что им надо? Значит, зрение у
них неплохое, но оно вынуждено служить их порочности, и, чем острее
они видят, тем больше совершают зла.
— Конечно, я это замечал.
— Однако если сразу же, еще в детстве пресечь
природные наклонности такой натуры, которые, словно свинцовые
грузила, влекут ее к чревоугодию, лакомству и различным другим
наслаждениям и направляют взор души вниз, то, освободившись от всего
этого, душа обратилась бы к истине, и те же самые люди стали бы
различать там все так же остро, как теперь в том, на что направлен
их взор. Это естественно.
[Роль этого искусства в управлении
государством]
— Что же? А разве естественно и неизбежно не
вытекает из сказанного раньше следующее: для управления государством
не годятся как люди непросвещенные и не сведущие в Истине, так и те,
кому всю жизнь предоставлено заниматься самоусовершенствованием, —
первые потому, что в их жизни нет единой цели, стремясь к которой
они должны были бы действовать, что бы они ни совершали в частной
или общественной жизни, а вторые — потому, что по доброй воле они не
станут действовать, полагая, что уже при жизни переселились на
Острова блаженных3.
— Это верно.
— Раз мы — основатели государства, нашим делом
будет заставлять лучшие натуры учиться тому познанию, которое мы
раньше назвали самым высоким, то есть умению видеть благо и
совершать к нему восхождение; но когда, высоко поднявшись, они в
достаточной мере его узрят, мы не позволим им того, что в наше время
им разрешается.
— Что ты имеешь в виду?
— Мы не позволим им оставаться там, на вершине,
из нежелания спуститься снова к тем узникам4,
и, худо ли бедно ли, они должны будут разделить с ними труды их и
почести.
— Выходит, мы будем несправедливы к этим
выдающимся людям и из-за нас они будут жить хуже, чем могли бы.
— Ты опять забыл, мой друг, что закон ставит
своей целью не благоденствие одного какого-нибудь слоя населения, но
благо всего государства. То убеждением, то силой обеспечивает он
сплоченность всех Граждан, делая так, чтобы они были друг другу
взаимно Полезны в той мере, в какой они вообще могут быть полезны
для всего общества. Выдающихся людей он включает в государство не
для того, чтобы 520предоставить им
возможность уклоняться куда кто хочет, но чтобы самому пользоваться
ими для укрепления государства.
— Правда, я позабыл об этом.
— Заметь Главкон, что мы не будем несправедливы к
тем, кто становится у нас философами, напротив, мы предъявим к ним
лишь справедливое требование, заставляя их заботиться о других и
стоять на страже их интересов. Мы окажем им так: "Во всех других
государствах люди, обратившиеся к философии, вправе не принимать
участия в государственных делах, потому что люди сделались такими
сами собой, вопреки государственному строю, а то, что вырастает само
собой, никому не обязано своим питанием, и там не может возникнуть
желание возместить по нему расходы. А вас родили мы, для вас же
самих и для остальных граждан, подобно тому как у пчел среди их роя
бывают вожди и цари. Вы воспитаны лучше и совершеннее, чем те
философы, и более их способны заниматься и тем и другим. Поэтому вы
должны, каждый в свой черед, спускаться в обитель прочих людей и
привыкать созерцать темные стороны жизни. Привыкнув, вы в тысячу раз
лучше, чем живущие там, разглядите и распознаете, что представляет
собой каждая тень и образ чего она есть, так как вы уже раньше
лицезрели правду относительно всего прекрасного, справедливого и
доброго. Тогда государство будет у нас с вами устроено уже наяву, а
не во сне, как это происходит сейчас в большинстве государств, где
идут междоусобные д войны и призрачные сражения за власть, — будто
это какое-то великое благо. По правде же дело обстоит вот как: где
всего менее стремятся к власти те, кому предстоит править, там
государство управляется лучше всего и распри отсутствуют полностью;
совсем иначе бывает в государстве, где правящие настроены
противоположным образом.
— Безусловно.
— Но ты думаешь, что наши питомцы, слыша это,
выйдут из нашего повиновения и не пожелают трудиться, каждый в свой
черед, вместе с гражданами, а предпочтут все время пребывать друг с
другом в области чистого [бытия]?
5
— Этого не может быть, потому что мы обращаемся к
людям справедливым с нашим справедливым требованием. Но во всяком
случае каждый из них пойдет управлять только потому, что это
необходимо — в полную противоположность современным правителям в
любом государстве.
— Так уж обстоит дело, дорогой мой. Если ты
найдешь 521для тех, кому предстоит править,
лучший образ жизни, чем обладание властью, тогда у тебя может
осуществиться государство с хорошим государственным строем. Ведь
только в таком государстве будут править те, кто на самом деле
богат, — не золотом, а тем, чем должен быть богат счастливый:
добродетельной и разумной жизнью. Если же бедные и неимущие
добиваются доступа к общественным благам, рассчитывая урвать себе
оттуда кусок, тогда не быть добру: власть становится чем-то таким,
что можно оспаривать, и подобного рода домашняя, внутренняя война
губит и участвующих в ней, и остальных граждан.
— Совершенно верно.
— А можешь ты назвать какой-нибудь еще образ
жизни, выражающий презрение к государственным должностям, кроме
того, что посвящен истинной философии?
— Клянусь Зевсом, нет.
— Однако не следует, чтобы к власти приходили те,
кто прямо-таки в нее влюблен. А то с ними будут сражаться соперники
в этой любви.
— Несомненно.
— Кого же иного заставишь ты встать на страже
государства, как не тех, кто вполне сведущ в деле наилучшего
государственного правления, а вместе с тем имеет и другие
достоинства и ведет жизнь более добродетельную, чем ведут
государственные деятели?
— Никого.
— Хочешь, рассмотрим, каким образом получаются
такие люди и с помощью чего можно вывести их наверх, к свету,
подобно тому, как, по преданию, некоторые поднялись из Аида к богам?
— Очень хочу!
— Но ведь это не то же самое, что перевернуть
черепок6;
тут надо душу повернуть от некоего сумеречного дня к истинному дню
бытия: такое восхождение мы, верно, назовем стремлением к мудрости,
— Конечно.
— Не следует ли нам рассмотреть, какого рода
познание обладает этой возможностью?
— Да, это надо сделать.
[Разделы наук, направленных на познание
чистого бытия]
— Так какое же познание, Главкон, могло бы увлечь
душу от становления к бытию? Но чуть только я задал этот вопрос, мне
вот что пришло на ум: разве мы не говорили, что [будущие философы]
непременно должны в свои юные годы основательно знакомиться с
военным делом?
— Говорили.
— Значит, то познание, которое мы ищем, должно
дополняться еще и этим.
— То есть чем?
— Оно не должно быть бесполезным для воинов.
— Конечно, не должно, если только это возможно.
— Как мы уже говорили раньше, их воспитанию
служат у нас гимнастические упражнения и мусическое искусство.
— Да, это у нас уже было.
— Между тем гимнастика направлена на то, что
может как возникать, так и исчезать, — ведь от нее зависит,
прибавляется ли или убавляется крепость тела.
— Понятно.
522— А ведь это совсем
не то, искомое, познание.
— Нет, не то.
— Но быть может, таково мусическое искусство,
которое мы разобрали раньше?
— Но именно оно, если ты помнишь, служило как бы
противовесом гимнастике; ведь оно воспитывает нравы стражей:
гармония делает их уравновешенными, хоть и не сообщает им знания, а
ритм сообщает их действиям последовательность. В речах их также
оказываются родственные этим свойства мусического искусства, будь то
в произведениях вымышленных или более близких к правде. Но познания,
ведущего к тому благу, которое ты теперь ищешь, в мусическом
искусстве нет вовсе.
— Ты очень точно напомнил мне: действительно,
ничего такого в нем нет, как мы говорили. Но, милый Главкон, в чем
могло бы оно содержаться? Ведь все искусства оказались грубоватыми.
— Конечно. Какое же еще остается познание, если
отпадают и мусическое искусство, и гимнастика, и все остальные
искусства?
— Погоди-ка. Если кроме них мы уже ничем не
располагаем, давай возьмем то, что распространяется на них всех.
— Что же это такое?
— Да то общее, чем пользуется любое искусство, а
также рассудок и знания; то, что каждый человек должен узнать прежде
всего.
— Что же это?
[Счет и число как один из разделов познания
чистого бытия]
— Да пустяк: надо различать, что такое один, два
и три. В общем я называю это числом и счетом. Разве дело не так
обстоит, что любое искусство и знание вынуждено приобщаться к нему?
— Да, именно так.
— А военное дело?
— И для него это совершенно неизбежно.
— Между тем в трагедиях Паламед всякий раз делает
так, что Агамемнон оказывается полководцем, вызывающим всеобщий
смех. Ведь Паламед — изобретатель чисел — говорит там про себя
(обратил ли ты на это внимание?), что это именно он распределил по
отрядам войско под Илионом, произвел подсчет кораблей и всего
прочего, как будто до того они не были сосчитаны, — видно, Агамемнон
не знал даже, сколько у него самого ног, раз он не умел считать!7
Каким уж там полководцем может он быть, по-твоему?
— Нелепым, если только это действительно было
так.
— Признаем ли мы необходимой для полководца эту
науку, то есть чтобы он умел вычислять и считать?
— Это крайне необходимо, если он хочет хоть
что-нибудь понимать в воинском деле, более того, если он вообще
хочет быть человеком.
— Но замечаешь ли ты в этой науке то же, что и я?
— А именно?
523— По своей природе
она относится, пожалуй, к тому, что ведет человека к размышлению, то
есть к тому, что мы с тобой ищем, но только никто не пользуется ею
действительно как наукой, увлекающей нас к бытию.
— Что ты имеешь в виду?
— Попытаюсь объяснить свою мысль. Но как я для
самого себя устанавливаю различие между тем, что ведет нас к
предмету нашего обсуждения, а что нет, это ты посмотри вместе со
мной, говоря прямо, с чем ты согласен, а с чем нет, чтобы мы могли
таким образом яснее разглядеть, верны ли мои догадки.
— Так указывай же мне путь.
— Я указываю, а ты смотри. Кое-что в наших
восприятиях не побуждает наше мышление к дальнейшему исследованию,
потому что достаточно определяется самим ощущением; но кое-что
решительно требует такого исследования, поскольку ощущение не дает
ничего надежного.
— Ясно, что ты говоришь о предметах, видных
издалека, как бы в смутной дымке.
— Не очень-то ты схватил мою мысль!
— Но о чем же ты говоришь?
— Не побуждает к исследованию то, что не вызывает
одновременно противоположного ощущения, а то, что вызывает такое
ощущение, я считаю побуждающим к исследованию, поскольку ощущение
обнаруживает одно нисколько не больше, чем другое, ему
противоположное, все равно, относится ли это ощущение к предметам,
находящимся вблизи или к далеким. Ты поймешь это яснее на следующем
примере: вот, скажем, три пальца — мизинец, указательный и
средний...
— Ну, да.
— Считай, что я говорю о них как о предметах,
рассматриваемых вблизи, но обрати здесь внимание вот на что...
— На что же?
— Каждый из них одинаково является пальцем — в
этом отношении между ними нет никакой разницы, все равно, смотришь
ли на его середину или край, белый ли он или черный, толстый или
тонкий и так далее. Во всем этом душа большинства людей не бывает
вынуждена обращаться к мышлению с вопросом: "А что это собственно
такое—палец?", потому что зрение никогда не показывало ей, что палец
одновременно есть и нечто противоположное пальцу.
— Конечно, не показывало.
— Так что здесь это, естественно, не побуждает к
размышлению и не вызывает его.
— Естественно.
— Далее. А большую или меньшую величину пальцев
разве можно в достаточной мере определить на глаз и разве для зрения
безразлично, какой палец находится посредине, а какой с краю? А на
ощупь можно ли в точности определить, толстый ли палец, тонкий ли,
мягкий или жесткий? Да и остальные ощущения разве не слабо
обнаруживают все это? 524С каждым из них не
так ли бывает: ощущение, назначенное определять жесткость, вынуждено
приняться и за определение мягкости и потому извещает душу, что одна
и та же вещь ощущается им и как жесткая, и как мягкая.
— Да, так бывает.
— В подобных случаях душа в свою очередь
недоумевает, что обозначено этим ощущением как жесткое, когда та же
самая вещь названа им мягкой. То же самое и при ощущении легкого и
тяжелого: душа не понимает, легкая это вещь или тяжелая, если
восприятие обозначает тяжелое как легкое, а легкое как тяжелое.
— Такие сообщения странны для души и нуждаются в
рассмотрении.
[Рассуждение и размышление как путь познания
чистого бытия]
— Естественно, что при таких обстоятельствах душа
привлекает себе на помощь рассуждение и размышление и прежде всего
пытается разобраться, об одном ли предмете или о двух разных
предметах сообщает ей в том или ином случае ощущение.
— Как же иначе?
— И если выяснится, что это два предмета, то
каждый из них окажется и иным, и одним и тем же.
— Да.
— Если каждый из них один, а вместе их два, то
эти два будут в мышлении разделены, ибо, если два не разделены, они
мыслятся уже не как два, а как одно.
— Верно.
— Ведь зрение, утверждаем мы, воспринимает
большое и малое не раздельно, а как нечто слитное, не правда ли?
— Да.
— Для выяснения этого мышление в свою очередь
вынуждено рассмотреть большое и малое, но не в их слитности, а в их
раздельности: тут полная противоположность зрению.
— Это верно.
— Так вот не из-за этого ли и возникает у нас
прежде всего вопрос: что же это собственно такое — большое и малое?
— Именно из-за этого.
— И таким образом, одно мы называем
умопостигаемым, а другое — зримым.
— Совершенно верно.
— Так вот как раз это я и пытался теперь сказать:
кое-что побуждает рассудок к деятельности, а
кое-что — нет. То, что воздействует на ощущения одновременно со
своей противоположностью, я определил как побуждающее, а что таким
образом не воздействует, то и не будит мысль.
— Теперь я уже понял, и мне тоже кажется, что это
так.
— Далее. К какому из этих двух разрядов относятся
единица и число?
— Не соображу.
— А ты сделай вывод из сказанного ранее. Если
нечто единичное достаточно хорошо постигается само по себе, будь то
зрением, будь то каким-либо иным чувством, то не возникает
стремления выяснить его сущность, как я это показал на примере с
пальцем. Если же в нем постоянно обнаруживается и какая-то
противоположность, так что оно оказывается единицей не более чем ее
противоположностью, тогда требуется уже какое-либо суждение: в этом
случае душа вынуждена недоумевать, искать, будоражить в самой себе
мысль и задавать себе вопрос, что же это такое — единица сама по
себе? 525Таким-то образом познание этой
единицы вело бы и побуждало к созерцанию бытия8.
[Созерцание тождественного]
— Но конечно, не меньше это наблюдается и в том
случае, когда мы созерцаем тождественное: одно и то же мы видим и
как единое, и как бесконечное множество.
— Раз так бывает с единицей, не то же ли самое и
со всяким числом вообще?
— Как же иначе?
— Но ведь арифметика и счет целиком касаются
числа?
— Конечно.
— И оказывается, что как раз они-то и ведут к
истине.
— Да к тому же превосходным образом.
— Значит, они принадлежат к тем познаниям,
которые мы искали. Воину необходимо их усвоить для войскового строя,
а философу — для постижения сущности, всякий раз как он вынырнет из
области становящегося, иначе ему никогда не стать мыслителем.
— Это так.
— А ведь наш страж — он и воин, и философ.
— Так что же?
[Обращение души от становления к истинному
бытию. Искусство счета]
— Эта наука, Главкон, подходит для того, чтобы
установить закон и убе дить всех, кто собирается занять высшие
должности в государстве, обратиться к искусству счета, причем
заниматься им они должны будут не как попало, а до тех пор, пока не
придут с помощью самого мышления к созерцанию природы чисел — не
ради купли-продажи, о чем заботятся купцы и торговцы, но для военных
целей и чтобы облегчить самой душе ее обращение от становления к
истинному бытию.
— Прекрасно сказано!
— Действительно, теперь, после разбора искусства
счета, я понимаю, как оно тонко и во многом полезно нам для нашей
цели, если занимаются им ради познания, а не по-торгашески.
— А чем именно оно полезно?
— Да тем, о чем мы только что говорили: оно
усиленно влечет душу ввысь и заставляет рассуждать о числах самих по
себе, ни в коем случае не допуская, чтобы кто-нибудь подменял их
имеющими число видимыми и осязаемыми телами. Ты ведь знаешь, что те,
кто силен в этой науке, осмеют и отвергнут попытку мысленно
разделить самое единицу, но если ты все-таки ее раздробишь, они
снова умножат части, боясь, как бы единица оказалась не единицей, а
многими долями одного.
— Ты совершенно прав.
526— Как ты думаешь,
Главкон, если спросить их: "Достойнейшие люди, о каких числах вы
рассуждаете? Не о тех ли, в которых единица действительно такова,
какой вы ее считаете, — то есть всякая единица равна всякой единице,
ничуть от нее не отличается и не имеет в себе никаких частей?" — как
ты думаешь, что они ответят?
— Да, по-моему, что они говорят о таких числах,
которые допустимо лишь мыслить, а иначе с ними никак нельзя
обращаться9.
— Вот ты и видишь, мой друг, что нам и в самом
деле необходима эта наука, раз оказывается, что она заставляет душу
пользоваться самим мышлением ради самой истины.
— И как умело она это делает!
— Что же? Приходилось ли тебе наблюдать, как люди
с природными способностями к счету бывают восприимчивы, можно
сказать, ко всем наукам? Даже все те, кто туго соображает, если они
обучаются этому и упражняются, то хотя бы они не извлекали из этого
для себя никакой иной пользы, все же становятся более
восприимчивыми, чем были раньше.
— Да, это так.
— Право, я думаю, ты нелегко и немного найдешь
таких предметов, которые представляли бы для обучающегося, даже
усердного, больше трудностей, чем этот.
— Конечно, не найду.
— И ради всего этого нельзя оставлять в стороне
такую науку, напротив, именно с ее помощью надо воспитывать людей,
имеющих прекрасные природные задатки.
— Я с тобой согласен.
— Стало быть, пусть это будет первым нашим
допущением. Рассмотрим же и второе, связанное, впрочем, с первым:
подходит ли нам это?
— Что именно? Или ты говоришь о геометрии?
— Да, именно.
— Поскольку она применяется в военном деле, ясно,
что подходит. При устройстве лагерей, занятии местностей, стягивании
и развертывании войск и разных других военных построениях как во
время сражения, так и в походах, конечно, скажется разница между
знатоком геометрии и тем, кто ее не знает.
— Но для этого было бы достаточно какой-то
незначительной части геометрии и счета. Надо, однако, рассмотреть
преобладающую ее часть, имеющую более широкое применение: направлена
ли она к нашей цели, помогает ли она нам созерцать идею блага? Да,
помогает, отвечаем мы, душе человека обратиться к той области, в
которой заключено величайшее блаженство бытия — а ведь это-то ей и
должно увидеть любым способом.
— Ты прав.
— Значит, если геометрия заставляет созерцать
бытие, она нам годится, если же становление — тогда нет.
— Действительно, мы так утверждаем.
527— Но кто хоть немного
знает толк в геометрии, не будет оспаривать, что наука эта полностью
противоположна тем словесным выражениям, которые в ходу у
занимающихся ею.
— То есть?
— Они выражаются как-то очень забавно и
принужденно. Словно они заняты практическим делом и имеют в виду
интересы этого дела, они употребляют выражения "построим"
четырехугольник, "проведем" линию, "произведем наложение" и так
далее: все это так и сыплется из их уст. А между тем все это наука,
которой занимаются ради познания.
— Разумеется.
— Не оговорить ли нам еще вот что...
— А именно?
— Это наука, которой занимаются ради познания
(вечного бытия, а не того, что возникает и гибнет.
— Хорошая оговорка: действительно, геометрия —
это познание вечного бытия.
— Значит, она влечет душу к истине и воздействует
на философскую мысль, стремя ее ввысь, между тем как теперь она у
нас низменна вопреки должному.
— Да, геометрия очень даже на это воздействует.
— Значит, надо по возможности строже предписать,
чтобы граждане Прекрасного города ни в коем случае не оставляли
геометрию: ведь немаловажно даже побочное ее применение.
— Какое?
— То, о чем ты говорил, — в военном деле да,
впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем,
какая бесконечная разница существует между человеком причастным к
геометрии и непричастным.
— Бесконечная, клянусь Зевсом! — Так примем это
как второй, предмет изучения для наших юношей?10
— Примем.
— Что же? Третьим предметом будет у нас
астрономия, как по-твоему?
— По-моему, да, потому что внимательные
наблюдения за сменой времен года, месяцев и лет пригодны не только
для земледелия и мореплавания, но не меньше и для руководства
военными действиями.
— Это у тебя приятная черта: ты, видно, боишься,
как бы большинству не показалось, будто ты предписываешь бесполезные
науки. Между тем вот что очень важно, хотя поверить этому трудно: в
науках очищается и вновь оживает некое орудие души каждого человека,
которое другие занятия губят и делают слепым, а между тем сохранить
его в целости более ценно, чем иметь тысячу глаз, — ведь только при
его помощи можно увидеть истину. Кто с этим согласен, тот решит, что
ты говоришь удивительно хорошо, а кто этого никак не ощущает, тот,
естественно, будет думать, будто ты несешь вздор, от которого, по их
мнению, нет никакой пользы и нет в нем ничего заслуживающего
упоминания. 528Так вот, ты сразу же учти, с
каким из этих двух разрядов людей ты беседуешь. Или, может быть, ни
с тем ни с другим, но главным образом ради себя самого берешься ты
за исследования? Но и тогда ты не должен иметь ничего против, если
кто-нибудь другой сумеет извлечь из них для себя пользу.
— Чаще всего я люблю рассуждать вот так,
посредством вопросов и ответов, но для самого себя.
— В таком случае дай задний ход11,
потому что мы сейчас неверно назначили следующий после геометрии
предмет.
— В чем же мы ошиблись?
— После плоскостей мы взялись за твердые тела,
находящиеся в круговращении, а надо бы раньше изучить их самих по
себе12
— ведь правильнее было бы после второго измерения рассмотреть
третье: оно касается измерения кубов и всего того, что имеет глубину13.
— Это так, Сократ, но здесь, кажется, ничего еще
не открыли.
— Причина тут двоякая: нет такого государства,
.где наука эта была бы в почете, а исследуют ее слабо, так как она
трудна. Исследователи нуждаются в руководителе: без него им не
сделать открытий. Прежде всего трудно ожидать, чтобы такой
руководитель появился, а если даже он и появится, то при нынешнем .
положении вещей те, кто исследует эти вещи, не .стали бы его
слушать, так как они слишком высокого мнения о себе. Если бы все
государство в целом уважало такие занятия и содействовало им,
исследователи подчинились бы, и их непрерывные усиленные поиски
раскрыли бы свойства изучаемого предмета. Ведь даже и теперь, когда
большинство не оказывает почета этим занятиям и препятствует им, да
и сами исследователи не отдают себе отчета в их полезности, они все
же вопреки всему этому развиваются, настолько они привлекательны.
Поэтому не удивительно, что наука эта появилась на свет.
— Действительно, в ней очень много
привлекательного. Но скажи мне яснее о том, что ты только что
говорил: изучение всего плоскостного ты отнес к геометрии?
— Да.
— А после нее ты взялся за астрономию, но потом
отступился.
— Я так спешил поскорее все разобрать, что от
этого все получилось медленнее. Далее по порядку шла наука об
измерении глубины, но так как с ее изучением дело обстоит до
смешного плохо, я перескочил через нее и после геометрии заговорил
об астрономии, то есть о вращении тел, имеющих глубину.
— Ты правильно говоришь.
— Итак, четвертым предметом познания мы назовем
астрономию — в настоящее время она как-то забыта, но она воспрянет,
если ею займется государство.
— Естественно. Ты недавно упрекнул меня, Сократ,
в том, что моя похвала астрономии была пошлой, — так вот, теперь я
произнесу ей похвалу в твоем духе: 529ведь,
по-моему, всякому ясно, что она заставляет душу взирать ввысь и
ведет ее туда, прочь ото всего здешнего.
— Возможно, что всякому это ясно, кроме меня, —
мне-то кажется, что это не так.
— А как же?
— Если заниматься астрономией таким образом, как
те, кто возводит ее до степени философии, то она даже слишком
обращает наши взоры вниз.
— Что ты имеешь в виду?
— Ты великолепно, по-моему, сам про себя решил,
что такое наука о вышнем. Пожалуй, ты еще скажешь, будто если
кто-нибудь, запрокинув голову, разглядывает узоры на потолке и при
этом кое-что распознает, то он видит это при помощи мышления, а не
глазами. Возможно, ты думаешь правильно, — я-то ведь простоват и
потому не могу считать, что взирать ввысь нашу душу заставляет
какая-либо иная наука, кроме той, что изучает бытие и незримое.
Глядит ли кто, разинув рот, вверх или же, прищурившись, вниз, когда
пытается с помощью ощущений что-либо распознать, все равно,
утверждаю я, он никогда этого не постигнет, потому что для подобного
рода вещей не существует познания и человек при этом смотрит не
вверх, а вниз, хотя бы он и лежал ничком на земле или умел плавать
на спине в море.
— Да, поделом мне досталось! Ты прав. Но как,
по-твоему, следует изучать астрономию в отличие от того, что делают
теперь? В чем польза ее изучения для нашей цели?
— А вот как. Эти узоры на небе14,
украшающие область видимого, надо признать самыми прекрасными и
совершенными из подобного рода вещей, но все же они сильно уступают
вещам истинным с их перемещениями друг относительно друга,
происходящими с подлинной быстротой и медленностью, в истинном
количестве и всевозможных истинных формах, причем перемещается всё
содержимое. Это постигается разумом и рассудком, но не зрением. Или,
по-твоему, именно им?
— Ни в коем случае.
— Значит, небесным узором надо пользоваться как
пособием для изучения подлинного бытия, подобно тому как если бы нам
подвернулись чертежи Дедала15
или какого-нибудь иного мастера либо художника, отлично и
старательно вычерченные. Кто сведущ в геометрии, тот, взглянув на
них, нашел бы прекрасным их выполнение, но было бы смешно их всерьез
рассматривать как источник истинного познания 530равенства,
удвоения или каких-либо иных отношений.
— Еще бы не смешно!
— А разве, по-твоему, не был бы убежден в этом и
подлинный астроном, глядя на круговращение звезд? Он нашел бы, что
все это устроено как нельзя более прекрасно — ведь так создал
демиург и небо и все, что на небе: соотношение ночи и дня, их
отношение к месяцу, а месяца — к году, звезд — ко всему этому и друг
к другу. Но он, конечно, будет считать нелепым того человека,
который полагает, что все это всегда происходит одинаково и ни в чем
не бывает никаких отклонений, причем всячески старается добиться
здесь истины, между тем как небесные светила имеют тело и
воспринимаются с помощью зрения.
— Я согласен с твоими доводами.
— Значит, мы будем изучать астрономию так же, как
геометрию, с применением общих положений, а то, что на небе, оставим
в стороне, раз мы хотим сдействительно
освоить астрономию и использовать еще неиспользованное разумное по
своей природе начало нашей души.
— Ты намного осложняешь задачу астрономии в
сравнении с тем, как ее теперь изучают.
— Я думаю, что и остальные наши предписания будут
в таком же роде, если от нас, как от законодателей, ожидается
какой-либо толк. Но можешь ли ты напомнить еще о какой-нибудь из
подходящих наук?
— Сейчас, так сразу, не могу.
— Я думаю, что движение бывает не одного вида, а
нескольких. Указать все их сумеет, быть может, знаток, но и нам
представляются два вида...
— Какой же?
— Кроме указанного, еще и другой, ему
соответствующий.
— Какой же это?
— Пожалуй, как глаза наши устремлены к
астрономии, так уши — к движению стройных созвучий: эти две науки —
словно родные сестры; по крайней мере так утверждают пифагорейцы, и
мы с тобой, Главкон, согласимся с ними16.
Поступим мы так?
— Непременно.
— Предмет это сложный, поэтому мы расспросим их,
как они все это объясняют — может быть, они и еще кое-что добавят.
Но что бы там ни было, мы будем настаивать на своем.
— А именно?
— Те, кого мы воспитываем, пусть даже не пытаются
изучать что-нибудь несовершенное и направленное не к той цели, к
которой всегда должно быть направлено все, как мы только что
говорили по поводу астрономии. Разве ты не знаешь, что и в отношении
531гармонии повторяется та же ошибка? Так
же как астрономы, люди трудятся там бесплодно: они измеряют и
сравнивают воспринимаемые на слух созвучия и звуки.
— Клянусь богами, у них это выходит забавно:
что-то они называют "уплотнением" и настораживают уши, словно ловят
звуки голоса из соседнего дома; одни говорят, что различают какой-то
отзвук посреди, между двумя звуками и что как раз тут находится
наименьший промежуток, который надо взять за основу для измерений;
другие спорят с ними, уверяя, что здесь нет разницы в звуках, но и
те и другие ценят уши выше ума.
— Ты говоришь о тех добрых людях, что не дают
струнам покоя и подвергают их пытке, накручивая на колки. Чтобы не
затягивать все это, говоря об ударах плектром, о том, как винят
струны, отвергают их или кичатся ими, я прерву изображение и скажу,
что имел в виду ответы не этих людей, а пифагорейцев, которых мы
только что решили расспросить о гармонии. Ведь они поступают
совершенно так же, как астрономы: они ищут числа в воспринимаемых на
слух созвучиях, но не подымаются до рассмотрения общих вопросов и не
выясняют, какие числа созвучны, а какие — нет и почему
17.
— Чудесное это было бы дело — то, о чем ты
говоришь!
— Да, действительно полезное для исследования
красоты и блага, иначе бесполезно и стараться.
— Безусловно.
— Я по крайней мере думаю, что если изучение всех
разобранных нами предметов доходит до установления их общности и
родства и приводит к выводу относительно того, в каком именно
отношении они друг к другу близки, то оно будет способствовать
достижению поставленной нами цели, так что труд этот окажется
небесполезным. В противном же случае он бесполезен.
— Мне тоже так сдается. Но ты говоришь об очень
сложном деле, Сократ.
— Ты разумеешь вводную часть или что-нибудь
другое? Разве мы не знаем, что все это лишь вступление к тому
напеву, который надо усвоить? Ведь не считаешь же ты, что кто в этом
силен, тот и искусный диалектик?
— Конечно, нет, клянусь Зевсом! Разве что очень
немногие из тех, кого я встречал.
— А кто не в состоянии привести разумный довод
или его воспринять, тот никогда не будет знать ничего Из
необходимых, по нашему мнению, знаний.
— Да, не иначе.
532— Так вот, Главкон,
это и есть тот самый напев, который выводит диалектика. Он
умопостигаем, а между тем зрительная способность хотела бы его
воспроизвести; но ведь ее попытки что-либо разглядеть обращены, как
мы говорили, лишь на животных, как таковых, на звезды, как таковые,
наконец, на Солнце, как таковое. Когда же кто-нибудь делает попытку
рассуждать, он, минуя ощущения, посредством одного лишь разума,
устремляется к сущности любого предмета и не отступает, пока при
помощи самого мышления не постигнет сущности блага. Так он
оказывается на самой вершине умопостигаемого, подобно тому как
другой взошел на вершину зримого.
— Совершенно верно.
— Так что же? Не назовешь ли ты этот путь
диалектическим?
— И дальше?
— Это будет освобождением от оков, поворотом от
теней к образам и свету, подъемом из подземелья к Солнцу. Если же и
тогда будет невозможно глядеть на живые существа, растения и на
Солнце, все же лучше смотреть на божественные отражения в воде и на
тени сущего, чем на тени образов, созданные источником света,
который сам не более как тень в сравнении с Солнцем. Взятое в целом,
занятие теми науками, о которых мы говорили, дает эту возможность и
ведет прекраснейшее начало нашей души ввысь, к созерцанию самого
совершенного в существующем, подобно тому как в первом случае самое
отчетливое [из ощущений], свойственных нашему телу, направлено на
самое яркое в теловидной и зримой области.
— Я допускаю, что это так, хотя допустить это мне
кажется очень трудным; с другой стороны, трудно это и не принять.
Впрочем (ведь не только сейчас об этом речь, придется еще не раз к
этому возвращаться), допустив, что дело обстоит так, как сейчас было
сказано, давал перейдем к самому напеву и разберем его таким
образом, как мы разбирали это вступление.
Скажи, чем отличается эта способность рассуждать,
из каких видов она состоит и каковы ведущие к ней пути? Они, видимо,
приводят к цели, достижение которой было бы словно отдохновением для
путника и завершением его странствий.
533— Милый мой Главкон,
у тебя пока еще не хватит сил следовать за мной, хотя с моей стороны
нет недостатка в готовности. А ведь ты увидел бы уже не образ того,
о чем мы говорим, а самое истину, по крайней мере как она мне
представляется. Действительно ли так обстоит или нет — на это не
стоит пока напирать. Но вот увидеть нечто подобное непременно надо —
на этом следует настаивать. Не так ли?
— И что же дальше?
— Надо настаивать и на том, что только
способность рассуждать может показать это человеку, сведущему в
разобранных нами теперь науках, иначе же это никак невозможно.
— Стоит утверждать и это.
— Никто не докажет нам, будто можно сделать
попытку каким-нибудь иным путем последовательно охватить всё, то
есть сущность любой вещи: ведь все другие способы исследования либо
имеют отношение к человеческим мнениям и вожделениям, либо
направлены на возникновение и сочетание [вещей] или же целиком на
поддержание того, что растет и сочетается. Что касается остальных
наук, которые, как мы говорили, пытаются постичь хоть что-нибудь из
бытия (речь идет о геометрии и тех науках, которые следуют за ней),
то им всего лишь снится бытие, а наяву пум невозможно его увидеть,
пока они, пользуясь своими предположениями, будут сохранять их
незыблемыми и не отдавать себе в них отчета. У кого началом служит
то, чего он не знает, а заключение и середина состоят из того, что
нельзя сплести воедино, может ли подобного рода несогласованность
когда-либо стать знанием?
— Никогда.
— Значит, в этом отношении один лишь
диалектический метод придерживается правильного пути18:
отбрасывая предположения, он подходит к первоначалу в целью его
обосновать; он потихоньку высвобождает, словно из какой-то
варварской грязи, зарывшийся туда взор нашей души и направляет его
ввысь, пользуясь в качестве помощников и попутчиков теми
искусствами, которые мы разобрали. По привычке мы не раз называли их
науками, но тут требовалось бы другое название, потому что приемы
эти не столь очевидны, как наука, хотя и более отчетливы, чем
мнение. А сам рассудок мы уже определили прежде. Впрочем, по-моему,
нечего спорить о названии, когда предмет рассмотрения столь
значителен, как сейчас у нас.
— Да, не стоит, лишь бы только название ясно
Выражало, что под ним подразумевается.
[Разделы диалектического метода — познание,
рассуждение, вера, уподобление]
— Тогда нас удовлетворят, как и раньше, следующие
названия: первый раздел — познание, второй — рассуждение,
534третий — вера, четвертый — уподобление.
Оба последних, вместе взятые, составляют мнение, оба первых —
мышление. Мнение относится к становлению, мышление — к сущности. И
как сущность относится к становлению, так мышление — к мнению. А как
мышление относится к мнению, так познание вносится к вере, а
рассуждение — к уподоблению. Разделение же на две области — того,
что мы мним, и того, что мы постигаем умом — и соответствие этих
обозначений тем предметам, к Которым они относятся, мы оставим с
тобой, Главкон, в стороне, чтобы избежать рассуждений, еще во много
раз более длинных, чем уже проделанные.
— Но я согласен и с остальным, насколько я в
силах за тобой следовать19.
— Конечно, ты называешь диалектиком того, кому
доступно доказательство сущности каждой вещи. Если кто этого лишен,
то насколько он не может дать
отчета ни себе ни другому, настолько же, скажешь
ты, у него и ума не хватает для этого.
— Как этого не сказать!
— Точно так же обстоит дело и относительно блага.
Кто не в силах с помощью доказательства определить
сидею блага, выделив ее из всего остального; кто не идет,
словно на поле битвы, сквозь все препятствия, стремясь к
опровержению, основанному не на мнении, а на понимании сущности; кто
не продвигается через все это вперед с непоколебимой уверенностью, —
про того, раз он таков, ты скажешь, что ему неведомо ни самое благо,
ни какое бы то ни было благо вообще, а если он и прикоснется
каким-то путем к призраку блага, то лишь при помощи мнения, а не
знания. Такой человек проводит нынешнюю свою жизнь в спячке и
сновидениях, и, прежде чем он здесь пробудится, он, придя в Аид,
окончательно погрузится в сон.
— Клянусь Зевсом, я решительно стану утверждать
все это.
— А своим детям — правда, пока что ты их растишь
и воспитываешь лишь мысленно, — если тебе придется растить их на
самом деле, ты ведь не позволил бы, пока они бессловесны, как
чертежный набросок20,
быть в государстве правителями и распоряжаться важнейшими делами?
— Конечно, нет.
— И ты законом обяжешь их получать
преимущественно такое воспитание, которое позволило бы им быть в
высшей степени сведущими в деле вопросов и ответов?
— Мы вместе с тобой издадим подобный закон.
— Так не кажется ли тебе, что диалектика будет у
нас подобной карнизу, венчающему все знания, и было бы неправильно
ставить какое-либо иное знание выше нее: ведь она вершина их всех.
535— По-моему, это так.
— Тебе остается только распределить, кому мы ;
будем сообщать эти познания и каким образом.
— Очевидно.
[Еще об отборе правителей и их воспитании]
— Помнишь, каких правителей мы отобрали, когда
раньше говорили об их выборе?
— Как не помнить!
— Вообще-то считай, что нужно выбирать указанные
тогда натуры, то есть отдавать предпочтение самым надежным,
мужественным и по возможности самым благообразным; но, кроме того,
надо отыскивать не только людей благородных и строгого нрава, но и
обладающих также свойствами, подходящими для такого воспитания.
— Кто же это, по-твоему?
— У них, друг мой, должна быть острая
восприимчивость к наукам и быстрая сообразительность. Ведь души
робеют перед могуществом наук гораздо больше, чем перед
гимнастическими упражнениями: эта трудность ближе касается души, она
— ее особенность, которую душа не разделяет с телом.
— Это верно.
— Надо искать человека с хорошей памятью,
несокрушимо твердого и во всех отношениях трудолюбивого. Иначе какая
ему, по-твоему, охота переносить телесные тягости, и в довершение
всего еще столько учиться и упражняться?
— Такого нам не найти, разве что это будет
исключительно одаренная натура.
— В том-то и состоит ошибка нашего времени и
потому-то недооценивают философию, что за нее берутся не так, как
она того заслуживает, — об этом мы говорили уже и раньше. Не подлым
надо бы людям на нее браться, а благородным.
— То есть как?
— Прежде всего у того, кто за нее берется, не
должно хромать трудолюбие, что бывает, когда человек трудолюбив лишь
наполовину, а в остальном избегнет трудностей. Это наблюдается, если
кто любит гимнастику, охоту и вообще все, что развивает тело, но не
любит учиться, исследовать, не любознателен: тогда подобного рода
трудности ему ненавистны. Хромым можно назвать и того, чье
трудолюбие обращено на трудности, противоположные этим.
— Ты вполне прав.
— Значит, и в том, что касается истины, мы будем
считать душу покалеченной точно так же, если она, несмотря на свое
отвращение к намеренной лжи (этого она и у себя не выносит, и
возмущается ложью других людей), все же снисходительно станет
допускать ложь нечаянную и не стесняться, когда ей укажут на
невежество, в котором она легкомысленно выпачкалась не хуже свиньи.
536— Все это совершенно
верно.
— И что касается рассудительности, мужества,
великодушия, а также всех других частей добродетели, надо не меньше
наблюдать, кто проявляет благородство, а кто — подлость. Не умеющий
это различать — будь то частное лицо или государство, — сам того не
замечая, привлечет для тех или иных надобностей — в качестве друзей
ли или правителей — людей, хромающих на одну ногу и подлых.
— Это действительно часто бывает.
— А нам как раз этого-то и надо избежать. Если .
мы подберем людей здравых телом и духом и воспитаем их на
возвышенных знаниях и усиленных упражнениях, то самой справедливости
не в чем будет нас упрекнуть и мы сохраним в целости и государство,
и его строй; а если мы возьмем неподходящих для этого людей, то всё
у нас выйдет наоборот и еще больше насмешек обрушится на философию.
— Это был бы позор.
— Конечно. Но видно я уже и сейчас оказался в
смешном положении.
— Почему?
— Позабыв, что все это у нас — только забава, я
сговорил, напрягаясь изо всех сил. А
говоря, я то и дело оглядывался на философию и видел, как ею
помыкают. В негодовании на тех, кто тому виной, я неожиданно вспылил
и говорил уж слишком всерьез.
— Клянусь Зевсом, у меня как у слушателя не
сложилось такого впечатления.
— Зато у меня оно сложилось — как у оратора. Но
не забудем вот чего: говоря тогда об отборе, мы выбирали пожилых, а
теперь выходит, что это не годится — ведь нельзя верить Солону,
будто человек, старея, может многому научиться; напротив, к этому он
становится способен еще менее, чем к бегу21:
именно юношам принадлежат все великие и многочисленные труды.
— Безусловно.
[Возрастная градация воспитания]
— Значит, счет, геометрию и разного рода другие
предварительные познания, которые должны предшествовать диалектике,
надо преподавать нашим стражам еще в детстве, не делая, однако,
принудительной форму обучения.
— То есть?
— Свободнорожденному человеку ни одну науку не
следует изучать рабски. Правда, если тело насильно наставляют
преодолевать трудности, оно от этого не делается хуже, но
насильственно внедренное в душу знание непрочно.
— Это верно.
— Поэтому, друг мой, питай своих детей науками
537не насильно, а играючи, чтобы ты лучше
мог наблюдать природные наклонности каждого.
— То, что ты говоришь, не лишено основания.
— Помнишь, мы говорили: надо брать с собой детей
н на войну — конечно, зрителями, на конях, а где безопасно, так и
поближе; пусть они отведают крови, словно щенки.
— Помню.
— Кто во всем этом — в трудах, в науках, в
опасностях — всегда будет выказывать себя самым находчивым, тех надо
занести в особый список.
— В каком возрасте?
— Когда они уже будут уволены от обязательных
занятий телесными упражнениями. Ведь в течение этого срока,
продолжается ли он два или три года, у них нет возможности
заниматься чем-либо другим. Усталость и сон — враги наук. А вместе с
тем ведь это немаловажное испытание: каким кто себя выкажет в
телесных упражнениях.
— Еще бы!
— По истечении этого срока юноши, отобранные нз
числа двадцатилетних, будут пользоваться большим почетом
сравнительно с остальными, а наукам, порознь спреподававшимся
им, когда они были детьми, должен быть сделан общий обзор, чтобы
показать их сродство между собою и с природой бытия.
— Знание будет прочным, только когда оно
приобретено подобным путем.
— И это самая главная проверка, имеются ли у
человека природные данные для занятий диалектикой или нет. Кто
способен все обозреть, тот — диалектик, кому же это не под силу, тот
— нет.
— Я тоже так думаю.
— Вот тебе и придется подмечать, кто наиболее
отличится в этом, кто будет стойким в науках, на войне , и во всем
том, что предписано законом. Из этих юношей, когда им исполнится
тридцать лет, надо будет опять-таки произвести отбор, окружить их
еще большим почетом и подвергнуть испытанию их способность к
диалектике, наблюдая, кто из них умеет, не обращая внимания на
зрительные и остальные ощущения, подняться до истинного бытия. Но
здесь требуется величайшая осторожность, мой друг.
— А собственно, почему?
— Разве ты не замечаешь зла, связанного в наше
время с умением рассуждать, — насколько оно распространилось?
— В чем же оно состоит?
— Люди, занимающиеся этим, преисполнены
беззакония.
— И в очень сильной степени.
— Удивляет ли тебя их состояние? Заслуживают ли
они, по-твоему, снисхождения?
— В каком же главным образом отношении?
— Возьмем такой пример: какой-нибудь подкинутый
ребенок вырастает в богатстве, в большой и 538знатной
семье, ему всячески угождают. Став взрослым, он узнаёт, что те, кого
он считал своими родителями, ему чужие, а подлинных родителей ему не
найти. Можешь ты предугадать, как будет он относиться к тем, кто его
балует, и к своим мнимым родителям — сперва в то время, когда он не
знал, что он подкидыш, а затем, когда уже это узнает? Или хочешь, я
тебе скажу, что я тут усматриваю?
— Хочу.
— Я предвижу, что, пока он не знает истины, он .
будет почитать мнимых родственников — мать, отца и всех остальных —
больше, чем тех, кто его балует. С его стороны будет меньше
пренебрежения к нуждам родственников, меньше беззаконных — Я
предвижу, что, пока он не знает истины, он . будет почитать мнимых
родственников — мать, отца и всех остальных — больше, чем тех, кто
его балует. С его стороны будет меньше пренебрежения к нуждам
родственников, меньше беззаконных поступков или выражений по
отношению к ним, меньше неповиновения им, чем тем, кто его балует.
— Естественно.
— Когда же он узнает правду, то, думаю я, его
почтение и внимательность к мнимым родственникам ослабеет, а к тем,
кто его балует, увеличится; он будет слушаться их гораздо больше,
чем раньше, жить на сих лад, откровенно
примкнув к ним, а о прежнем своем отце и об остальных мнимых
родственниках вовсе перестанет заботиться, разве что по натуре он
будет исключительно порядочным человеком.
— Все так и бывает, как ты говоришь. Но какое
отношение имеет твой пример к людям, причастным к рассуждениям?
[Справедливость воспитывается в человеке с
детства]
— А вот какое: относительно того, что справедливо
и хорошо, у нас с детских лет имеются взгляды, в которых мы
воспитаны под воздействием наших родителей, — мы подчиняемся им и их
почитаем.
— Да, это так.,
— Но им противоположны другие навыки, сопряженные
с удовольствиями, они ласкают нам душу своей привлекательностью.
Правда, люди хоть сколько-нибудь умеренные не поддаются им, послушно
почитая заветы отцов.
— Это все так...
— Далее. Когда перед человеком, находящимся в
таком положении, встанет Вопрос, вопрошая22:
"Что такое прекрасное?" — человек ответит так, как привычно усвоил
от законодателя, однако дальнейшее рассуждение это опровергнет. При
частых и всевозможных опровержениях человек этот падет так низко,
что будет придерживаться мнения, будто прекрасное ничуть не более
прекрасно, чем безобразно. Так же случится и со справедливостью, с
благом и со всем тем, что он особенно почитал. После этого что,
по-твоему, станется с его почтительностью и послушанием?
— У него неизбежно уже не будет такого почтения и
убежденности.
— Если же он перестанет считать все это ценным и
дорогим, как бывало, а истину найти будет не в состоянии, то,
спрашивается, к какому же иному образу сод жизни ему естественно
обратиться, как не к тому, который ему будет лестен?
539— Все другое
исключено.
— Так окажется, что он стал нарушителем законов,
хотя раньше соблюдал их предписания.
— Да, это неизбежно.
— Значит, подобное состояние естественно для тех,
кто причастен к рассуждениям, и, как я говорил прежде, такие люди
вполне заслуживают сочувствия.
— И сожаления.
— Значит, чтобы люди тридцатилетнего возраста не
вызывали у тебя подобного рода сожаления, надо со всевозможными
предосторожностями приступать к рассуждениям.
— Несомненно.
— Разве не будет одной из постоянных мер
предосторожности не допускать, чтобы вкус к рассуждениям появлялся
смолоду?23
Я думаю, от тебя не укрылось, что подростки, едва вкусив от таких
рассуждений, злоупотребляют ими ради забавы, увлекаясь
противоречиями и подражая тем, кто их опровергает, да и сами берутся
опровергать других, испытывая удовольствие от того, что своими
доводами они, словно щенки, разрывают на части всех, кто им
подвернется.
— Да, в этом они не знают удержу.
— После того как они сами опровергнут многих о и
многие опровергнут их, они вскорости склоняются к полному отрицанию
прежних своих утверждений, а это опорочивает в глазах других людей и
их самих да заодно и весь предмет философии.
— Совершенно верно.
— Ну, а кто постарше, тот не захочет принимать
участия в подобном бесчинстве; скорее он будет подражать человеку,
желающему в беседе дойти до истины, чем тому, кто противоречит ради
забавы, в шутку. Он и сам будет сдержан и занятие свое сделает
почетным, а не презренным.
— Правильно.
— Разве не относится к мерам предосторожности все
то, о чем мы говорили раньше: допускать к отвлеченным рассуждениям
лишь упорядоченные и стойкие натуры, а не так, как теперь, когда за
это берется кто попало, в том числе совсем неподходящие люди?
— Конечно, это необходимая мера.
— В сравнении с тем, кто развивает свое тело
путем гимнастических упражнений, будет ли достаточен вдвое больший
срок для овладения искусством рассуждать, если постоянно и
напряженно заниматься лишь этим?
— Ты имеешь в виду шесть лет или четыре года?
— Это неважно. Пусть даже пять. После этого они
будут у тебя вынуждены вновь спуститься в ту пещеру24:
их надо будет заставить занять государственные должности — как
военные, так и другие, подобающие молодым людям: пусть они никому не
уступят и в опытности. Вдобавок надо на всем этом их проверить —
устоят ли они перед разнообразными влияниями или же кое в чем
поддадутся.
540— Сколько времени ты
на это отводишь?
— Пятнадцать лет. А когда им будет пятьдесят, то
тех из них, кто уцелел и всячески отличился — как на деле, так и в
познаниях — пора будет привести к окончательной цели: заставить их
устремить ввысь свой духовный взор и взглянуть на то самое, что
всему дает свет, а увидев благо само по себе, взять его за образец и
упорядочить и государство, и частных лиц, а также самих себя —
каждого в свой черед — на весь остаток своей жизни. Большую часть
времени они станут проводить в философствовании, а когда наступит
черед, будут трудиться над гражданским устройством, занимать
государственные должности — не потому, что это нечто прекрасное, а
потому, что так необходимо ради государства. Таким образом, они
постоянно будут воспитывать людей, подобных им самим, и ставить их
стражами государства взамен себя, а сами отойдут на Острова
блаженных, чтобы там обитать. Государство на общественный счет
соорудит им памятники и будет приносить жертвы как божествам, если
это подтвердит Пифия, а если нет, то как счастливым и божественным
людям.
— Ты, Сократ, словно ваятель, прекрасно завершил
лепку созданных тобою правителей.
— И правительниц, Главкон,—все, что я говорил,
касается женщин ничуть не меньше, чем мужчин: правда, конечно, тех
женщин, у которых есть на то природные способности.
— Это верно, раз женщины будут во всем
участвовать наравне с мужчинами, как мы говорили.
— Что же? Вы согласны, что относительно
государства и его устройства мы высказали совсем не пустые
пожелания? Конечно, все это трудно, однако как-то возможно, притом
не иначе чем было сказано: когда властителями в государстве станут
подлинные философы, будет ли их несколько или хотя бы один,
нынешними почестями они пренебрегут, считая их низменными и ничего
не стоящими, и будут высоко ценить порядочность и ту честь, что с
нею связана, но самым великим и необходимым будут считать
справедливость; служа ей и умножая ее, устроят они свое государство.
— Но как именно?
— Всех, кому в городе больше десяти лет, они
ото-, шлют в деревню, а остальных детей, оградив их от
541воздействия современных нравов,
свойственных родителям, воспитают на свой лад, в тех законах,
которые мы разобрали раньше. Таким-то вот образом всего легче и
скорее установится тот государственный строй, о котором мы говорили,
государство расцветет, а народ, у которого оно возникнет, для себя
извлечет великую пользу.
— Да, огромную. А как это могло бы произойти,
если когда-нибудь осуществится, ты, Сократ, по-моему, хорошо
разъяснил.
— Значит, мы уже достаточно поговорили об этом
государстве н о соответствующем ему человеке? Ведь ясно, каким он,
по-нашему, должен быть.
— Да, ясно. И поставленный тобою вопрос, кажется
мне, получил свое завершение.
Примечания Тахо-Годи
1 Гомер. Од. XI
490—491. Ср. выше, кн. III, прим. 2.
2 Знаменитый символ пещеры у
Платона дает читателю образное понятие о мире высших идей и мире
чувственно воспринимаемых вещей, которые суть не что иное, как тени
идей, их слабые копии и подобия.
Ограниченность человеческой жизни примитивным
существованием выражена Платоном также в "Федоне" (109а—Hid), в мифе
о двух Землях — нашей, человеческой, и вышней, небесной, — согласно
которому люди обитают в глубоких впадинах, в грязных и изъеденных
морской солью расселинах нашей Земли, не догадываясь, что есть
истинное небо, истинный свет и истинная Земля.
В греческой философской традиции пещера как символ
духовной ослепленности встречается очень редко, и трактовку, которую
дает Платон, можно считать оригинальной. Намек на этот символ есть в
"Прикованном Прометее" Эсхила, где описывается безрадостная жизнь
жалких человеческих существ, которые наподобие "проворных муравьев"
обитают в "глубинах бессолнечных пещер" и, "глядя, не видят",
"слушая, не слышат", а жизнь их подобна "образам сновидений"
(447—453). Видимо, символ пещеры был знаком и пифагорейцам (Porphyr.
De antro nymph. 8 Nauck), а также Эмпедоклу, у которого во
фрагментах "душеводительные силы" говорят: "Пришли мы в эту закрытую
пещеру" (31В120). Ферекид Сирский в своих символах "углублений",
"ям", "пещер" и "ворот" намекает на "рождение и умирание души" (7 В
6 D).
3 Об Островах блаженных,
обители героев-праведников, см. т. 1, прим. 82 к диалогу "Горгий",
стр. 573. Геродот указывает, что в Египте, в семи днях пути от Фив
через пустыню, есть город Оасис, по-эллински называемый Островом
блаженных.
4 Здесь узники —
сословия земледельцев и ремесленников в противоположность стражам,
приобщенным к "свету", т. e. к наукам.
5 О терминах чистый
(catharos), чистота (catharotês) и очищение
(catharsis) у Платона см. в кн.: А.Ф. Лосев. История античной
эстетики. М., 1969, стр. 302—310, где рассматривается чистота
физическая, чистота ума, души, идей и магический смысл катартики.
Самая ценная чистота для Платона — это "чистота узрения предмета
мысли, как такового", и она-то и есть "максимальная красота" всех
областей бытия, "начиная от телесных и земных и кончая эфирными и
небесными" (там же, стр. 305).
6 Здесь речь идет о роли
случая, на основе которого построена игра в камешки, или черепки.
Ср. "Федр", 241b.
7 О Паламеде см. т.
1, прим. 53 к "Апологии Сократа". Об Агамемноне см. т. 2,
прим. 15 к диалогу "Пир".
Паламед считался изобретателем шашек (игры в кости),
алфавита и счета (Aesch., фр. 182; Soph. фр. 438; Eur. фр. 578),
хотя Эсхил приписывал изобретение цифр и букв Прометею (Prom. vinct.
459-461).
8 Чувственно воспринимаемая
единица ("одно") всегда включает в себя также и множество
(один город — много людей, один человек—много частей тела, одна
рука—много пальцев и т. д.). Попытки найти такое одно, которое не
предполагает ничего, кроме себя, ведет к мысленному восхождению к
беспредпосылочному началу, или Единому, т. e. наука о числах
способствует стремлению к философским размышлениям.
9 Здесь имеется в виду
бесконечная делимость конкретного числа, воплощенного в вещах, и
неделимость идеального числа.
10 Известно, какое громадное
значение Платон придавал геометрии. При входе в Академию была
надпись: "Негеометр — да не войдет". В Академию вообще не
принимались те, кто был далек от музыки, геометрии и астрономии.
Диоген Лаэртский сообщает (IV 10), что глава Академии Ксенократ
сказал человеку, не сведущему в вышеуказанных науках: "Иди, у тебя
нечем ухватиться за философию". Среди учеников Платона были крупные
математики Евдокс и Менехм, а геометр Евклид "был близок
платоновской философии" (Prod. in Euclid. 68).
11 Дать задний ход —
метафора от команды моряков.
12 Здесь имеется в виду
стереометрия (греч. stereos—твердый), изучающая положение твердых
тел в пространстве.
13 Под кубом
понимается здесь любое тело, имеющее три измерения. Сократ говорит,
видимо, о задаче "удвоения куба", которой занимались пифагорейцы и
разрешение которой с применением не стереометрии, а планиметрии
предложил Гиппократ Хиосский (42 В 4 D).
14 Ср. у Эсхила: "ночь в
расшитом узорами одеянии" (Prom. vinct. 24 — о ночном звездном небе)
или у Эврипида: "узоры звезд" (Неl. 1096).
15 О Дедале см. т. 1,
прим. 10 к диалогу "Ион".
16 Платон связывает между
собой астрономию и музыку, так как, согласно учению пифагорейцев,
которому он тут следует, движение небесных тел, доступное зрению,
создает гармонию сфер, лежащую в основе музыкальной гармонии,
доступной человеческому слуху.
17 Здесь критикуется
пифагорейское экспериментаторство. Изучением качества звука
занимался древний пифагореец Гиппас: он изготовил медные доски и
извлекал из них "симфонию звуков" "по причине некоторой
соразмерности" (18 А 12 D). Ему принадлежит учение о быстром и
медленном движении звуков, которые он наблюдал на сосудах, в разных
соотношениях наполненных жидкостью (А 13).
18 Диалектика, по Платону,
является единственно правильным и универсальным методом
постижения высшего блага, так как все науки изучают только
чувственно-вещественное его проявление в осязаемом, видимом мире
(см. ниже, 533d).
19 Ср. "Государство", VI
511b-а.
20 Незрелый разум детей
можно, по Платону, сравнить с бессловесностью линий или с
величинами, значение которых "неизреченно" или "невыразимо" (arrêtoi,
alogoi), т. e. с величинами иррациональными.
21 См. Солон, фр. 22
D.
22 Ср. эту персонификацию с
персонификацией законов и государства в "Критоне" (50a—54d; см.
также т. 1, прим. 12 к диалогу "Критон").
23 Ср. рассуждение
Аристотеля о том, что "молодой человек не пригоден к занятию
политической наукой, так как он неопытен в делах житейских". Кроме
того, считает Аристотель, он под влиянием аффектов не получит пользу
от изучения политических теорий. Людям, подверженным аффектам,
познание приносит мало пользы (Eth. Nic. I 1, 1095а 2—11).
24 См. выше, кн. VII 514а и
ниже. Здесь имеется в виду повседневная практическая деятельность
философов.