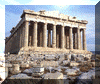"РАННИЕ ДИАЛОГИ
ПЛАТОНА И СОЧИНЕНИЯ ПЛАТОНОВСКОЙ ШКОЛЫ."
(изд."Мысль". Философское Наследие. Том 98.)
ЛИСИД.
(окончание)
— Возможно.
— Далее, хороший человек, в той мере,
в какой он хорош, не довлеет ли настолько же самому себе?
— Да, довлеет.
— Тот же, кто довлеет себе, ни в чем
не нуждается по причине этого самодовления.
— Несомненно.
ь — А тот, кто
ни в чем не нуждается, ни к чему и не тяготеет.
— Да, это так.
— Далее, кто не тяготеет к чему-то,
тот и не любит.
— Конечно, нет.
— Тот же, кто не любит,— не друг.
— Ясно, что это так.
— Каким же образом — начнем с этого —
могут быть хорошие люди друзьями хорошим, если они, будучи
далеки друг от друга, не испытывают взаимного тяготения и
довлеют самим себе, живя порознь, да и находясь вместе, не могут
принести друг другу никакой пользы? И какое ухищрение может
заставить таких людей высоко друг друга ценить?
— Да никакое,— отвечал Лисид.
с — Ну а не ценя друг друга, они не
могут быть и
друзьями.
— Это правда.
— Вникни же, мой Лисид, насколько мы
отклонились от истины. Пожалуй, мы находимся полностью в
заблуждении.
— Как же это? — спросил он.
— Мне случилось некогда слышать от
кого-то —сейчас я это припоминаю,— будто подобное подобному и
хорошие хорошим в высшей степени враждебны ; при этом он
ссылался в качестве свидетеля на Гесиода,сказавшего, что
Гончар гончара
ненавидит, аэд не выносит аэда,
А нищего — нищий...23
d
И относительно всего остального он
таким же обра-
зом утверждал, будто неизбежно, что, чем более одно
подобно другому, тем более оба они исполнены взаим-
ной неприязни, зависти и вражды, в то время как самое
между собой несходное преисполнено дружбы 24. Поэто-
му бедный неизбежно будет другом богатому, слабый —
сильному, ибо они могут в таком случае рассчитывать
на помощь, болезненный же человек будет другом вра-
чу; и точно так же всякий несведущий человек будет
любить и уважать сведущего. В еще более возвышенных
выражениях он рассуждал о том, что подобное никак не е
бывает дружественно подобному, но дело обстоит прямо
противоположным образом: величайшая дружба суще-
ствует между крайними противоположностями. И каж-
дый вожделеет именно к своей крайней противополож-
ности, но не к своему подобию: сухое стремится к влаж-
ному, холодное — к горячему, горькое — к сладкому,
острое — к тупому, пустота — к наполненности, а
наполненность — к пустоте, и все прочее — таким же
точно порядком 25. Ведь противоположное питает проти-
воположное, тогда как подобное не получает ничего от
подобного. В самом деле, мой друг, говоря это, он пока-
зал себя весьма изысканным человеком: прекрасно ведь
это сказано. А вам,— спросил я,— как нравится его
речь?
— Очень нравится — в том виде, как мы
ее сейчас
слышим,— сказал Менексен.
— Итак, скажем мы, что
противоположное в высшей
степени дружественно противоположному?
— Да, конечно.
— Но,— возразил я,— не странно ли
это, Менексен?
Ведь тут же на нас, ликуя, набросятся все эти высоко-
мудрые мужи — любители противоречий, вопрошая, не
в высшей ли степени противоположны между собою
вражда и дружба? И что мы им ответим? Быть может,
необходимо признать, что здесь они правы?
— Да, это необходимо.
— Так что же,— спросят они,—
враждебное дружественно дружественному или дружественное
—враждебному?
— Ни то ни другое,— отвечал Менексен.
— А справедливое — несправедливому,
скромное —невоздержному или благое — дурному дружественны?
— Нет, мне кажется, это неверно.
— Однако,— возразил я,— если что-либо
бывает дружественным чему-то в силу крайней противоположности,
необходимо и этим вещам быть дружественными?
— Необходимо.
— Следовательно, ни подобное
подобному, ни противоположное противоположному не бывает
дружественным.
— Похоже, что не бывает.
с — Рассмотрим же еще вот что, дабы от нас
впредь не утаилось, что дружественное поистине не имеет
отношения ко всем этим вещам, но ни хорошее ни дурное не бывает
дружественным хорошему 26.
— Что ты имеешь в виду? — спросил
Менексен.
— Клянусь Зевсом,— отвечал я,— я и
сам этого хорошенько не знаю, но испытываю настоящее
головокружение из-за сложности рассуждения. Быть может, согласно
древней поговорке, нам мило прелестное : слова эти напоминают
что-то легкое, гладкое, лоснящееся; возможно, поэтому-то они
от нас всячески ускользают. Итак, я утверждаю, что благо
прекрасно.
Ты не согласен?
— Нет, согласен.
— Далее, я утверждаю как своего рода
пророчество,
что прекрасному и благому дружественно то, что и не
хорошо и не дурно. Послушай же, к чему относится
мое прорицание. Мне представляется, что существуют
как бы неких три рода — хорошее, дурное и третье —
ни хорошее ни дурное . А ты как считаешь?
— Точно так же,— отвечал Менексен.
— И при этом ни хорошее хорошему, ни
дурное
дурному, ни хорошее дурному не бывают дружествен-
е ными — это запрещает наше прежнее рассуждение.
Таким образом, если что и бывает дружественным дру-
гому, то остается ни хорошее ни плохое в качестве дру-
жественного либо хорошему, либо такому же, как оно
само. Ведь плохому ничто не может быть дружествен-
ным.
— Это правда.
— Но и подобное не может быть
дружественным
подобному, как мы сказали недавно. Не так ли?
— Да.
— Значит, ни хорошее ни плохое не
будет дружест-
венным такому же, как оно само.
— Очевидно, нет.
— Таким образом, одно только то, что
и не хорошо
и не плохо, может оказаться дружественным хорошему.
— Похоже, что это неизбежно.
— Итак, мои мальчики, теперешнее
рассуждение
указало нам, по-видимому, прекрасный путь? — спро-
сил я.— Если мы пожелаем представить себе здоровое
тело, то поймем, что оно не нуждается ни во врачебном
искусстве, ни в получении какой-либо пользы; оно
довлеет себе, так что ни один здоровый человек не
будет другом врачу: ведь он здоров. Не так ли?
—
Именно так.
— А больной человек из-за своей
болезни будет в
нем нуждаться?
— Как же иначе?
— Ведь болезнь — это зло, врачебное
же искусство — нечто полезное и благое.
— Да.
— Тело же само по себе — это ни благо
ни зло.
— Правильно.
— А бывает оно вынуждено из-за своей
болезни
тянуться к врачебному искусству и его любить?
— Мне кажется, да.
— Следовательно, ни дурное ни хорошее
становится
дружественным хорошему из-за присутствующего в нем
зла?
— Похоже, что так.
— Ясно, что оно становится
дружественным хоро-
шему раньше, чем оказывается плохим из-за наличного
в нем зла. Ведь оно стремится к хорошему и дружески
тянется к нему до того, как само станет плохим: мы же с
сказали, что дурное не может быть другом хорошему.
— Да, не может.
— Посмотрите же, что именно я
утверждаю: неко-
торые вещи, говорю я, сами уподобляются тому, что в
них присутствует, другие же нет. Например, если кто
пожелает выкрасить некий предмет какой-нибудь крас-
кой, то краска эта будет присутствовать в том, что ею
выкрашено.
— Конечно.
— В этом случае выкрашенный предмет
будет иметь
такой же цвет, как положенная на него краска?
— Я не совсем тебя понимаю,— молвил
Менексен.
— Но я вот что имею в виду, —
продолжал я. — Если
кто-нибудь твои рыжие волосы покрасит белилами,
станут они от этого белыми или лишь будут казаться
такими?
— Будут казаться,— отвечал он.
— Но в них будет присутствовать
белизна.
— Да.
— Однако от этого они ничуть не
станут белыми,
но, несмотря на присутствие белизны, окажутся ни бе-
лыми, ни черными.
— Это правда.
— Когда же, мой друг, старость
выкрасит их в тот
же цвет, они станут подобны тому, что к ним добави-
лось,— белыми от присутствия белизны.
— Как же иначе?
— Вот о том я тебя сейчас и
спрашиваю: если к
чему-то присоединится нечто, уподобится ли то, что
получило данный признак, этому последнему? Или же
это будет зависеть от способа, каким произошло это
присоединение?
— Скорее именно так,— отвечал
Менексен.
— Значит, и то, что ни плохо ни
хорошо, иногда от
присоединения плохого не становится плохим до поры
до времени, а бывает, что и становится.
— Несомненно.
— И пока оно еще не стало плохим от
присоедине-
ния плохого, присутствие этого последнего заставляет
его стремиться к хорошему. То же, что делает его пло-
хим, лишает его одновременно и такого стремления и
любви к добру. Ибо оно уже не будет ни плохим ни хо-
рошим, но оказывается плохим, а плохое не может быть,
как мы видели, другом хорошему.
— Нет, не может.
— Поэтому мы должны сказать, что те,
кто уже мудры, не стремятся более к мудрости, боги они или люди.
Не стремятся к ней и те, кого крайнее невежество делает плохими
людьми: ни один дурной и невежественный человек не тяготеет к
мудрости. Остаются те, в ком хоть и гнездится это зло —
невежество, однако не делает их совсем неразумными и
невежественными:они еще понимают, что не знают того, что им
неизвестно. Поэтому-то стремится к мудрости тот, кто не хороши
не плох; плохие же люди к ней не стремятся и точно так же
хорошие 29, ибо, как показало наше прежнее рас-
суждение, ни противоположное не дружественно противоположному,
ни подобное — подобному. Припоминаете ли вы это?
— Разумеется,— отвечали оба.
— Теперь,— продолжал я,— Лисид и
Менексен, мы наилучшим образом установили, что есть
дружественное, а что таковым не является. Мы утверждаем, что ни
хорошее ни плохое — идет ли речь о душе, теле или о чем бы то ни
было другом — оказывается дружественным хорошему в силу
присутствия в нем плохого.
Оба они согласились с тем, что это во
всех отношениях верно.
Сам я также очень обрадовался,
подобно охотнику, настигшему наконец свою добычу 30.
Но потом — не знаю откуда — пришло мне в голову нелепейшее
подозрение, что наш общий вывод неверен. Сразу опечалившись, я
молвил:
— Увы, Лисид и Менексен, кажется,
богатство наше нам только приснилось!
— Да как же так? — спросил Менексен.
— Боюсь,— отвечал я,— не уподобились
ли мы лживым бахвалам, попусту бросающимся такими вот словами
относительно дружбы.
— Что ты имеешь в виду? — спросил он.
— А вот что,— сказал я,— давайте
посмотрим: тот, кто является другом, является им кому-то или же
нет?
— Разумеется, кому-то,— отвечал он.
— Без всякой причины и цели или по
какой-то причине и ради чего-то?
— По какой-то причине и ради чего-то.
— А тому, ради чего друг является
другом своему другу, он дружествен или же не дружествен и не
враждебен?
— Я не совсем понимаю,— промолвил
Менексен.
ι
— Это не удивительно,— сказал я.— Но,
быть может, тебе будет яснее, да и сам я лучше осмыслю свои
слова, если скажу так: мы только что утверждали, что больной
человек бывает другом врачу. Не так ли?
- Да.
— Значит, он друг ему по причине
своей болезни и ради выздоровления?
- Да.
— А болезнь — это зло?
10 Платон
— Ну конечно.
— А здоровье? — спросил я.— Благо или
зло или ни то ни другое?
— Благо,— отвечал он.
îl9
— Итак, мы говорили, если я не ошибаюсь, что тело, не
являясь ни благом ни злом, бывает дружественно врачебному
искусству по причине болезни, то есть по причине зла. Врачебное
же искусство — благо, ему дарят дружбу ради здоровья, а здоровье
— это также благо. Ты согласен с этим?
— Да.
— Так другом или недругом бывает
здоровье?
— Другом.
— А болезнь — это враг?
— Разумеется.
b
— Значит, то, что не есть ни благо ни зло, становится
другом хорошему по причине зла и вражды и ради блага и дружбы.
— Это очевидно.
— Следовательно, друг становится
другом во имя дружбы и по причине вражды.
— По-видимому.
~ Ну что ж, дети мои,— сказал я.—
Коль скоро мы к этому пришли, давайте будем внимательны, чтобы
не промахнуться. Ведь то, что дружественное оказалось
дружественным дружественному и подобное оказывается таким
образом дружественным подобному, я оставляю пока в покое — мы же
признаём это невозможным. Но давайте проследим, чтобы нас не
обмануло наше теперешнее рассуждение. Итак, мы сказали, что
врачебс ное искусство дружественно во имя здоровья?
— Да.
— Значит, и здоровье дружественно
также?
— Конечно.
— А если дружественно, то ведь ради
чего-то?
— Да.
— Ради чего-то дружественного, если
придержи-
ваться прежнего решения?
— Разумеется.
— Но, значит, и это последнее
будет дружественным ради чего-то дружественного?
— Да.
— Однако, став на такой путь, не
должны ли мы будем в конце концов неизбежно остановиться либо
прийти к некоему первоначалу31, которое уже
неприведет нас более к другому дружественному, но окажется тем
первичным дружественным, во имя которого мы и считаем
дружественным все остальное?
— Да, это неизбежно.
— Вот это и есть то, что я имею в
виду: я опасался,
как бы не обмануло нас все, что, по нашим словам,
дружественно на основе этого первоначала и представ-
ляет собой как бы его отображение, в то время как само
это первоначало есть истинно дружественное. Давайте
поразмыслим вот над чем: когда кто-нибудь ценит что-
либо чрезвычайно высоко — например, когда отец всему
своему достоянию предпочитает своего сына,— он ведь
должен из предпочтения к своему сыну высоко ценить
и что-то еще? Например, если
бы он увидел, что тот
выпил цикуту 32, он ведь выше всего ценил бы тогда ви-
но, считая, что оно может спасти его сыну жизнь?
— Несомненно,— откликнулся Менексен.
— А также и сосуд, в котором
содержалось бы это
вино?
— Конечно.
— Но значит ли это, что в таких
обстоятельствах он
не делает никакого различия между глиняным кубком
и своим сыном или между своим сыном и тремя мерами
вина? Или же в действительности дело обстоит так: все
эти усилия делаются не ради средств, употребляемых
для достижения поставленной цели, но ради цели, во
имя которой пускаются в ход эти средства? Часто мы гово-
рим, что высоко ценим золото и серебро; однако это не
вполне верно: выше всего мы ценим то, во имя чего мы
копим и золото и все остальные средства. Так ли мы
скажем?
— Разумеется, так.
— Но не то же ли самое относится к
дружественно-
му? Все то, что мы называем дружественным нам из-за
некоего иного дружественного, дружественно не в
собственном смысле этого слова: на самом деле дру-
жественно, как видно, лишь то самое, к чему устрем-
ляется все это так называемое дружественное.
— По-видимому, так оно и есть,—
сказал Менексен.
— Значит, то, что дружественно по
существу, дру-
жественно не из-за какого-то другого дружественного?
— Это верно.
— Значит, следует исключить то, что
дружественное
дружественно по причине какого-то другого дружест-
венного. А благо — это нечто дружественное?
— Мне кажется, да.
— Итак, благо любят по причине зла, и
дело обстоит
е следующим образом: если бы из трех
вещей, сейчас нами перечисленных,— блага, зла и того, что не
есть ни благо ни зло, остались бы только две, причем зло бы
исчезло и ничему больше не грозило — ни телу, ни душе, ни всему
остальному, что мы определили как само по себе ни плохое ни
хорошее, то благо не принесло бы нам никакой пользы, но
оказалось бы бесполезным?
Если ничто не наносит нам более ущерба и мы не ожиd
даем для себя никакой пользы, именно тогда становится ясным, что
мы любим и ценим благо из-за присутствия зла, как некое
лекарство от этого зла, зло же приравниваем к болезни; а при
отсутствии болезни нет нужды ни в каком лекарстве. Такова
природа блага, и любим мы его по причине зла, когда сами
находимся посредине между благом и злом; само же по себе — как
самоцель — оно ведь не приносит никакой пользы?
— Похоже, что нет,— отозвался
Менексен.
— Итак, нам дружественно то, к чему
устремляется
е все остальное, именуемое нами дружественным из-за
иного дружественного, кое ничем не напоминает осталь-
ное. Последнее именуется дружественным из-за того
дружественного, кое в полную противоположность
остальному оказывается истинно дружественным, дру-
жественным по самой своей природе: ведь остальное
для нас дружественно по причине враждебного; если
же враждебное исчезает, оно, по-видимому, не будет
больше нам дружественным.
— По крайней мере,— сказал Менексен,—
если ве-
рить сказанному сейчас.
— Но,— спросил я,— во имя Зевса, если
зло погиб-
нет, исчезнут ли также голод и жажда или другие по-
221 добные вещи? Или, коль скоро существуют люди и
дру-
гие живые существа, голод останется, хотя он и не будет
вредоносным? Также и жажда и другие вожделения не
будут больше злом, ибо ведь зло погибло? Или вообще
вопрос о том, что тогда будет или чего не будет, смехо-
творен? Кому ж это может быть ведомо? Однако одно
мы знаем, а именно что в настоящее время голодаю-
щий человек может испытывать и урон и пользу. Не
так ли?
— Разумеется.
b
— Значит, и терпящий жажду или испытывающий другие
подобные вожделения может иногда испытыватьих
с пользой для себя, иногда — во вред, а иногда и не так и не
этак?
— Несомненно.
— Что ж, если зло погибнет, следует
ли из этого, что вместе с ним должно погибнуть и то, что не
является злом?
— Вовсе нет.
— Значит, вожделения, кои ни хороши и
ни дурны, останутся и тогда, когда погибнет зло?
— Очевидно.
— Так вот, возможно ли, испытывая к
чему-либо вожделение и страсть, не любить то, что вызывает эти
страстные вожделения?
— Мне кажется, нет.
— Значит, и после исчезновения зла
останется с что-то дружественное?
— Да.
— Но ведь если зло — причина
того, что нечто является дружественным, то после его гибели
ничто не может быть дружественным чему-то другому. Коль скоро
причина погибла, не может продолжать существование то, чему она
служила причиной.
— Ты прав.
— А разве мы не признали, что
дружественное дружественно чему-то и по какой-то причине? ,Мы
ведь считали тогда, что причина эта — зло, и именно по причине
зла то, что и не хорошо и не плохо, дружественно хорошему.
— Это правда.
— А вот теперь, похоже,
обнаруживается какая-то и ная причина взаимной дружбы.
— Да, похоже, что так.
d
— Значит, и в самом деле, как мы
говорили недавно,
вожделение есть причина дружбы, и вожделеющее дру-
жественно тому, к чему оно вожделеет, и тогда, когда
оно вожделеет, а то, что мы прежде говорили относи-
тельно дружественного, оказывается вздором — словно
поэма, изобилующая длиннотами?
— Это возможно.
— Однако вожделеющее вожделеет к
тому, в чем оно
нуждается . Не так ли?
— Да.
— Значит, нуждающееся дружественно
тому, в чем е
оно нуждается?
— Мне так кажется.
— Нуждается же оно в том, чего оно
каким-то образом лишено?
— Как же иначе?
— Итак, Менексен и Лисид, похоже, что
любовь, дружба и вожделение оказываются чем-то внутренне нам
присущим 34.
Они с этим согласились.
— Значит, коль скоро вы между собою
друзья, вы по своей природе друг другу родственны.
— Да, несомненно! — воскликнули они в
один голос.
— И если, мальчики,— сказал я,—
кто-либо из двух
вожделеет к другому или любит его, то, следовательно,
он не вожделел, не любил бы его и не испытывал бы к
нему дружеского чувства, если бы не был каким-то
образом родствен любимому — душою ли или неким
свойством, привычкой либо особенностью души.
— Несомненно,— отозвался Менексен;
Лисид же промолчал.
— Далее,— заметил я,— мы,
естественно, должны любить родственное нам по своей природе.
— Да, это естественно,— сказал
Менексен.
— А посему подлинно любящему, а не
делающему вид, что он любит, любимец должен отвечать любовью.
b
На это Лисид и Менексен едва кивнули, Гиппотал
же от радости то бледнел, то краснел.
А я, желая пересмотреть сказанное
заново, говорю:
— Если нечто родственное отлично от
подобного, то, как мне кажется, Лисид и Менексен, мы говорим
дело относительно дружбы. Если же подобное и родственное — одно
и тоже, нелегко нам будет отбросить наше прежнее рассуждение,
ибо тогда окажется, что подобное подобному вовсе не бесполезно в
силу своей подобности; и уж совсем чистым вздором выглядело бы
допущение, будто бесполезное дружественно. Итак, не с
желаете ли вы,— продолжал я,— поскольку мы уже почти пьяны от
слов, согласиться с утверждением, что родственное чем-то отлично
от подобного?
— Конечно, желаем.
— Не предположим ли мы также, что
благо родственно
всему, зло же, наоборот, чуждо? Или что зло родственно
злу, благо — благу, а то, что не есть ни благо ни зло,—
тому, что не есть ни благо ни зло?
Они согласились с каждым из членов
этого положения.
— Итак, мальчики,— сказал я,— мы
снова впали в
то недоразумение относительно дружбы, которое отбро-
сили раньше: получается, что несправедливый человек
несправедливому и дурной дурному будет таким же
другом, как хороший человек хорошему.
— Похоже, что так,— откликнулся
Менексен.
— Далее, если мы утверждаем, что
благое и родст-
венное тождественны , разве это не то же самое, что
сказать: только хороший человек — друг хорошему?
— Конечно, то же самое.
— Однако припоминаете ли вы, что и по
этому
пункту мы, как нам казалось, себя опровергли?
— Припоминаем.
— Но как же еще можем мы
воспользоваться нашим е
рассуждением? Не ясно ли, что никак? У меня возникла
потребность, подобно мудрым судьям, пересмотреть с
самого начала все нами сказанное. Итак, если ни любя-
щие, ни любимые, ни подобные, ни неподобные, ни доб-
рые люди, ни родственные, равно как и все прочее, что
мы перечислили,— я уж и не упомню всего, такое этих
вещей было множество — если ничто из этого не являет-
ся дружественным, мне нечего больше сказать.
Говоря это, я имел в виду привлечь к
нащей беседе
кого-нибудь из тех, кто постарше. Но тут, подобно злым
демонам, приблизились воспитатели Менексена и Лиси-
да, ведя за собою их братьев; они позвали мальчиков и
приказали им идти домой. Было уже позднее время. Мы
и все стоявшие вокруг нас хотели было их прогнать, но,
поскольку они не обращали на нас никакого внимания
и, сердито лопоча что-то на своем варварском наречии,
продолжали их звать, нам показалось, что они перепи- b
лись на празднестве Гермеса и не в состоянии с нами
разговаривать 36; побежденные, мы прервали нашу бе-
седу. Однако, когда они уже уходили, я сказал:
— Вот видите, Лисид и Менексен, я,
старик, вместе
с вами оказался в смешном положении. Ведь все, кто
уйдет отсюда, скажут, что мы, считая себя друзьями —
я и себя отношу к вашим друзьям, —оказались не в
состоянии выяснить, что же это такое — друг.
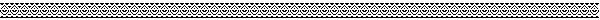 |