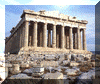ПЛАТОН. "ПИР"
.2.
Речь Сократа:
цель Эрота - овладение благом.
И Сократ, продолжал Аристодем, начал примерно так:
- Ты показал в своей речи поистине прекрасный пример, дорогой Агафон,
когда говорил, что прежде надо сказать о самом Эроте и его
свойствах, а потом уже о его делах. Такое начало очень мне по душе.
Так вот, поскольку ты прекрасно и даже блестяще разобрал свойства
Эрота, ответь-ка мне вот что. Есть ли Эрот непременно любовь к
кому-то или нет? Я не спрашиваю, любовь ли это, скажем, к отцу или
матери – смешон был бы вопрос, есть ли Эрот любовь к матери или
отцу, – нет, я спрашиваю тебя так, как спросил бы ну, например, об
отце: раз он отец, то ведь он непременно доводится отцом кому-то?
Если бы ты захотел ответить на это правильно, ты бы, вероятно,
сказал мне, что отец всегда
доводится отцом дочери или сыну, не так ли?
- Конечно, – отвечал Агафон.
- И мать точно так же, не правда ли?
Агафон согласился и с этим.
- Тогда ответь еще на вопрос-другой, чтобы тебе легче было понять,
чего я хочу. Если брат действительно брат, то ведь он обязательно
брат кому-то?
Агафон отвечал, что это так.
- Брату, следовательно, или сестре? – спросил Сократ.
Агафон отвечал утвердительно.
- Теперь, – сказал Сократ, – попытайся ответить насчет любви. Есть
ли Эрот любовь к кому-нибудь или нет?
- Да, конечно.
- Так вот, запомни это покрепче и не забывай, а пока ответь,
вожделеет ли Эрот к тому, кто является предметом любви, или нет?
- Конечно, вожделеет, – отвечал Агафон.
- Когда же он любит и вожделеет: когда обладает предметом любви или
когда не обладает?
- По всей вероятности, когда не обладает, – сказал Агафон.
- А может быть, – спросил Сократ, – это не просто вероятность, но
необходимость, что вожделение вызывает то, чего недостает, а не то,
в чем нет недостатка? Мне, например, Агафон, сильно сдается, что это
необходимость. А тебе как?
- И мне тоже, – сказал Агафон.
- Отличный ответ. Итак, пожелал бы, например, рослый быть рослым, а
сильный сильным?
- Мы же согласились, что это невозможно. Ведь у того, кто обладает
этими качествами, нет недостатка в них.
- Правильно. Ну, а если сильный, – продолжал Сократ, - хочет быть
сильным, проворный проворным, здоровый здоровым и так далее? В этом
случае можно, пожалуй, думать, что люди, уже обладающие какими-то
свойствами, желают как раз того, чем они обладают. Так вот, чтобы не
было никаких недоразумений, я рассматриваю и этот случай. Ведь если
рассудить, Агафон, то эти люди неизбежно должны уже сейчас обладать
упомянутыми свойствами – как же им еще и желать их? А дело тут вот в
чем. Если кто-нибудь говорит: "Я хоть и здоров, а хочу быть
здоровым, я хоть и богат, а хочу быть богатым, то есть желаю того,
что имею", – мы вправе сказать ему: "Ты, дорогой, обладая
богатством, здоровьем и силой, хочешь обладать ими и в будущем,
поскольку в настоящее время ты все это волей-неволей имеешь.
Поэтому, говоря: "Я желаю того, что у меня есть", ты говоришь, в
сущности: "Я хочу, чтобы то, что у меня есть сейчас, было у меня и в
будущем". Согласился бы он с нами?
Агафон ответил, что согласился бы. Тогда
Сократ сказал:
- А не значит ли это любить то, чего у тебя еще нет и чем не
обладаешь, если ты хочешь сохранить на будущее то, что имеешь
теперь?
- Конечно, значит, – отвечал Агафон.
- Следовательно, и этот человек, и всякий другой желает того, чего
нет налицо, чего он не имеет, что не есть он сам и в чем испытывает
нужду, и предметы, вызывающие любовь и желание, именно таковы?
- Да, конечно, – отвечал Агафон.
- Ну, а теперь, – продолжал Сократ, – подведем итог сказанному.
Итак, во-первых, Эрот это всегда любовь к кому-то или к чему-то, а
во-вторых, предмет ее – то, в чем испытываешь нужду, не так ли?
- Да, – отвечал Агафон.
- Вспомни вдобавок, любовью к чему назвал ты в своей речи Эрота?
Если хочешь, я напомню тебе. По-моему, ты сказал что-то вроде того,
что дела богов пришли в порядок благодаря любви к прекрасному,
поскольку, мол, любви к безобразному не бывает? Не таков ли был
смысл твоих слов?
- Да, именно таков, – отвечал Агафон.
- И сказано это было вполне справедливо, друг мой, - продолжал
Сократ. – Но не получается ли, что Эрот - это любовь к красоте, а не
к безобразию?
Агафон согласился с этим.
- А не согласились ли мы, что любят то, в чем нуждаются и чего не
имеют?
- Согласились, – отвечал Агафон.
- И значит, Эрот лишен красоты и нуждается в ней?
- Выходит, что так, – сказал Агафон.
- Так неужели ты назовешь прекрасным то, что совершенно лишено
красоты и нуждается в ней?
- Нет, конечно.
- И ты все еще утверждаешь, что Эрот прекрасен, - если дело обстоит
так?
- Получается, Сократ, – отвечал Агафон, – что я сам не знал, что
тогда говорил.
- А ведь ты и в самом деле прекрасно говорил, Агафон. Но скажи еще
вот что. Не кажется ли тебе, что доброе прекрасно?
- Кажется.
- Но если Эрот нуждается в прекрасном, а доброе прекрасно, то,
значит, он нуждается и в добре.
- Я, – сказал Агафон, – не в силах спорить с тобой, Сократ. Пусть
будет по-твоему.
- Нет, милый мой Агафон, ты не в силах спорить с истиной, а спорить
с Сократом дело нехитрое.
Но теперь я оставлю тебя в покое. Я попытаюсь передать вам речь об
Эроте, которую услыхал некогда от одной мантинеянки, диотимы,
женщины очень сведущей и в этом и во многом другом и добившейся
однажды для афинян во время жертвоприношения перед чумой
десятилетней отсрочки этой болезни, – а диотима-то и просветила меня
в том, что касается любви, – так вот, я попытаюсь передать ее речь,
насколько это в моих силах, своими словами, отправляясь от того, в
чем мы с Агафоном только что согласились.
Итак, следуя твоему, Агафон, примеру, нужно
сначала выяснить, что такое Эрот и каковы его свойства, а потом уже,
каковы его дела. Легче всего, мне кажется, выяснить это так же, как
некогда та чужеземка, а она задавала мне вопрос за вопросом. Я
говорил ей тогда примерно то же, что мне сейчас Агафон: Эрот – это
великий бог, это любовь к прекрасному. А она доказала мне теми же
доводами, какими я сейчас Агафону, что он, вопреки моим
утверждениям, совсем не прекрасен и вовсе не добр. И тогда я спросил
ее:
- Что ты говоришь, диотима? Значит, Эрот безобразен и подл?
А она ответила:
- Не богохульствуй! Неужели то, что не прекрасно, непременно должно
быть, по-твоему, безобразным?
- Конечно.
- И значит, то, что не мудро, непременно невежественно? Разве ты не
замечал, что между мудростью и невежеством есть нечто среднее?
- Что же?
- Стало быть, тебе неведомо, что правильное, но не подкрепленное
объяснением мнение нельзя назвать знанием? Если нет объяснения,
какое же это знание? Но это и не невежество. Ведь если это
соответствует тому, что есть на самом деле, какое же это невежество?
По-видимому, верное представление – это нечто среднее между
пониманием и невежеством.
- Ты права, – сказал я.
- А в таком случае не стой на том, что все, что не прекрасно,
безобразно, а все, что не добро, есть зло. И, признав, что Эрот не
прекрасен и также не добр, не думай, что он должен быть безобразен и
зол, а считай, что он находится где-то посредине между этими
крайностями.
- И все-таки, – возразил я, – все признают его великим богом.
- Ты имеешь в виду всех несведущих или также и сведущих? – спросила
она.
- Всех вообще.
- Как же могут, Сократ, – засмеялась она, - признавать его великим
богом те люди, которые и богом-то его не считают?
- Кто же это такие? – спросил я.
- Ты первый, – отвечала она, – я вторая.
- Как можешь ты так говорить? – спросил я.
- Очень просто, – отвечала она. – Скажи мне, разве ты не
утверждаешь, что все боги блаженны и прекрасны? Или, может быть, ты
осмелишься о ком-нибудь из богов сказать, что он не прекрасен и не
блажен?
- Нет, клянусь Зевсом, не осмелюсь, – ответил я.
- А блаженным ты называешь не тех ли, кто прекрасен и добр?
- Да, именно так.
- Но ведь насчет Эрота ты признал, что, не отличаясь ни добротою, ни
красотой, он вожделеет к тому, чего у него нет.
- Да, я это признал.
- Так как же он может быть богом, если обделен добротою и красотой?
- Кажется, он и впрямь не может им быть.
- Вот видишь, – сказала она, – ты тоже не считаешь Эрота богом.
- Так что же такое Эрот? – спросил я. – Смертный?
- Нет, никоим образом.
- А кто же?
- Как мы уже выяснили, нечто среднее между бессмертным и смертным.
- Кто же он, диотима?
- Великий гений, Сократ. Ведь все гении представляют собой нечто
среднее между богом и смертным.
- Каково же из назначение?
- Быть истолкователями и посредниками между людьми и богами,
передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и
вознаграждения за жертвы. Пребывая посредине, они заполняют
промежуток между теми и другими, так что Вселенная связана
внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания,
жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям,
таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству. Не соприкасаясь с
людьми, боги общаются и беседуют с ними только черед посредство
гениев – и наяву и во сне. И кто сведущ в подобных делах, тот
человек божественный, а сведущий во всем прочем, будь то какое-либо
искусство или ремесло, просто ремесленник. Гении эти многочисленны и
разнообразны, и Эрот – один из них.
- Кто же его отец и мать? – спросил я.
- Рассказывать об этом долго, – отвечала она, – но все-таки я тебе
расскажу.
Когда родилась Афродита, боги собрались на пир, и в числе их был
Порос, сын Метиды. Только они отобедали – а еды у них было вдоволь,
– как пришла просить подаяния Пения и стала у дверей. И вот Порос,
охмелев от нектара – вина тогда еще не было, - вышел в сад Зевса и,
отяжелевший, уснул. И тут Пения, задумав в своей бедности родить
ребенка от Пороса, прилегла к нему и зачала Эрота. Вот почему Эрот –
спутник и слуга Афродиты: ведь он был зачат на празднике рождения
этой богини; кроме того, он по самой своей природе любит красивое:
ведь Афродита красавица. Поскольку же он сын Пороса и Пении, дело с
ним обстоит так: прежде всего он всегда беден и, вопреки
распространенному мнению, совсем не красив и не нежен, а груб,
неопрятен, не обут и бездомен; он валяется на голой земле, под
открытым небом, у дверей, на улицах и, как истинный сын своей
матери, из нужды не выходит. Но с другой стороны, он по-отцовски
тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он
искусный ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет разумности и
достигает ее, он всю жизнь занят философией, он искусный чародей,
колдун и софист. По природе своей он ни бессмертен, ни смертен: в
один и тот же день он то живет и расцветает, если дела его хороши,
то умирает, но, унаследовав природу отца, оживает опять. Все, что он
ни приобретает, идет прахом, отчего Эрот никогда не бывает ни богат,
ни беден. Он находится также посредине между мудростью и
невежеством, и вот почему. Из богов никто не занимается философией и
не желает стать мудрым, поскольку боги и так уже мудры; да и вообще
тот, кто мудр, к мудрости не стремится. Но не занимаются философией
и не желают стать мудрыми опять-таки и невежды. Ведь тем-то и
скверно невежество, что человек и не прекрасный, и не совершенный, и
не умный вполне доволен собой. А кто не считает, что в чем-то
нуждается, тот и не желает того, в чем, по его мнению, не испытывает
нужды.
- Так кто же, Диотима, – спросил я, – стремится к мудрости, коль
скоро ни мудрецы, ни невежды философией не занимаются?
- Ясно и ребенку, – отвечала она, – что занимаются ею те, кто
находится посредине между мудрецами и невеждами, а Эрот к ним и
принадлежит. Ведь мудрость – это одно из самых прекрасных на свете
благ, а Эрот – это любовь к прекрасному, поэтому Эрот не может не
быть философом, т.е. любителем мудрости, а философ занимает
промежуточное положение между мудрецом и невеждой. Обязан же он этим
опять-таки своему происхождению: ведь отец у него мудр и богат, а
мать не обладает ни мудростью, ни богатством. Такова, дорогой
Сократ, природа этого гения. Что же касается твоего мнения об Эроте,
то в нем нет ничего удивительного. Судя по твоим словам, ты считал,
что Эрот есть предмет любви, а не любящее начало. Потому-то, я
думаю, Эрот и показался тебе таким прекрасным. Ведь предмет любви и
в самом деле и прекрасен, и нежен, и полон совершенства, и достоин
зависти. А любящее начало имеет другой облик, такой, примерно, как я
сейчас описала.
Тогда я сказал ей:
- Пусть так, чужеземка, ты говорила прекрасно. Но если Эрот таков,
какая польза от него людям?
- А это, Сократ, – сказала она, – я сейчас и попытаюсь тебе
объяснить. Итак, свойства и происхождение Эрота тебе известны, а
представляет он собой, как ты говоришь, любовь к прекрасному. Ну, а
если бы нас спросили: "Что же это такое, Сократ и диотима, любовь к
прекрасному?" – или, выражаясь еще точнее: "Чего же хочет тот, кто
любит прекрасное?"
- Чтобы оно стало его уделом, – ответил я.
- Но твой ответ, – сказала она, – влечет за собой следующий вопрос,
а именно: "Что же приобретет тот, чьим уделом станет прекрасное?"
Я сказал, что не могу ответить на такой вопрос сразу.
- Ну, а если заменить слово "прекрасное" словом "благо" и спросить
тебя: "Скажи, Сократ, чего хочет тот, кто любит благо?"
- Чтобы оно стало его уделом, – отвечал я.
- А что приобретает тот, чьим уделом окажется благо? – спросила она.
- На это, – сказал я, – ответить легче. Он будет счастлив.
- Правильно, счастливые счастливы потому, что обладают благом, –
подтвердила она. – А спрашивать, почему хочет быть счастливым тот,
кто хочет им быть, незачем. Твоим ответом вопрос, по-видимому,
исчерпан.
- Ты права, – согласился я.
- Ну, а это желание и эта любовь присущи, по-твоему, всем людям, и
всегда ли они желают себе блага, по-твоему?
- Да, – отвечал я. – Это присуще всем.
- Но если все и всегда любят одно и то же, – сказала она, – то
почему же, Сократ, мы говорим не обо всех, что они любят, а об одних
говорим так, а о других - нет?
- Я и сам этому удивляюсь, – отвечал я.
- Не удивляйся, – сказала она. – Мы просто берем одну какую-то
разновидность любви и, закрепляя за ней название общего понятия,
именуем любовью только ее, а другие разновидности называем иначе.
- Например? – спросил я.
- Изволь, – отвечала она. – Ты знаешь, творчество - понятие широкое.
Все, что вызывает переход из небытия в бытие, – творчество, и,
следовательно, создание любых произведений искусства и ремесла можно
назвать творчеством, а всех создателей – их творцами.
- Совершенно верно, – согласился я.
- Однако, – продолжала она, – ты знаешь, что они не называются
творцами, а именуются иначе, ибо из всех видов творчества выделена
одна область - область музыки и стихотворных размеров, к которой и
принято относить наименование "творчество". Творчеством зовется
только она, а творцами-поэтами – только те, кто в ней подвизается.
- Совершенно верно, – согласился я.
- Так же обстоит дело и с любовью. По сути, всякое желание блага и
счастья – это для всякого великая и коварная любовь. Однако о тех,
кто предан таким ее видам, как корыстолюбие, любовь к телесным
упражнениям, любовь к мудрости, не говорят, что они любят и что они
влюблены, – только к тем, кто занят и увлечен одним лишь
определенным видом любви, относят общие названия "любовь", "любить"
и "влюбленные".
- Пожалуй, это правда, – сказал я.
- Некоторые утверждают, – продолжала она, – что любить – значит
искать свою половину. А я утверждаю, что ни половина, ни целое не
вызовет любви, если не представляет собой, друг мой, какого-то
блага. Люди хотят, чтобы им отрезали руки и ноги, если эти части
собственного их тела кажутся им негодными. Ведь ценят люди вовсе не
свое, если, конечно, не называть все хорошее своим и родственным
себе, а все дурное – чужим, – нет, любят они только хорошее. А ты
как думаешь?
- Я думаю так же, – отвечал я.
- Нельзя ли поэтому просто сказать, что люди любят благо?
- Можно, – ответил я.
- А не добавить ли, – продолжала она, – что люди любят и обладать
благом?
- Добавим.
- И не только обладать им, но обладать вечно?
- Добавим и это.
- Не есть ли, одним словом, любовь не что иное, как любовь к вечному
обладанию благом?
- Ты говоришь сущую правду, – сказал я.
- Ну, а если любовь – это всегда любовь к благу, - сказала она, – то
скажи мне, каким образом должны поступать те, кто к нему стремится,
чтобы их пыл и рвение можно было назвать любовью? Что они должны
делать, ты можешь сказать?
- Если бы мог, – отвечал я, – я не восхищался бы твоей мудростью и
не ходил к тебе, чтобы все это узнать.
- Ну, так я отвечу тебе, – сказала она. – Они должны родить в
прекрасном как телесно, так и духовно.
- Нужно быть гадателем, – сказал я, – чтобы понять, что ты имеешь в
виду, а мне это непонятно.
- Ну что ж, – отвечала она, – скажу яснее. дело в том, Сократ, что
все люди беременны как телесно, так и духовно, и, когда они
достигают известного возраста, природа наша требует разрешения от
бремени. Разрешиться же она может только в прекрасном, но не в
безобразном. Соитие мужчины и женщины есть такое разрешение. И это
дело божественное, ибо зачатие и рождение суть проявления
бессмертного начала в существе смертном. Ни то ни другое не может
произойти в неподходящем, а неподходящее для всего божественного –
это безобразие, тогда как прекрасное – это подходящее. Таким
образом, Мойра и Илифия всякого рождения – это Красота. Поэтому,
приблизившись к прекрасному, беременное существо проникается
радостью и весельем, родит и производит на свет, а приблизившись к
безобразному, мрачнеет, огорчается, съеживается, отворачивается,
замыкается и, вместо того чтобы родить, тяготится задержанным в
утробе плодом. Вот почему беременные и те, кто уже на сносях, так
жаждут прекрасного – оно избавляет их от великих родильных мук. Но
любовь, – заключила она, – вовсе не есть стремление к прекрасному,
как то тебе, Сократ, кажется.
- А что же она такое?
- Стремление родить и произвести на свет в прекрасном.
- Может быть, – сказал я.
- Несомненно, – сказала она. – А почему именно родить? да потому,
что рождение – это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена
смертному существу. Но если любовь, как мы согласились, есть
стремление к вечному обладанию благом, то наряду с благом нельзя не
желать и бессмертия. А значит, любовь – это стремление и к
бессмертию.
Всему этому она учила меня всякий раз, когда беседовала со мной о
любви. А однажды она спросила меня:
- В чем, по-твоему, Сократ, причина этой любви и этого вожделения?
Не замечал ли ты, в сколь необыкновенном состоянии бывают все
животные, и наземные и пернатые, когда они охвачены страстью
деторождения? Они пребывают в любовной горячке сначала во время
спаривания, а потом – когда кормят детенышей, ради которых они
готовы и бороться с самыми сильными, как бы ни были слабы сами, и
умереть, и голодать, только чтобы их выкормить, и вообще сносить
все, что угодно. О людях еще можно подумать, – продолжала она, – что
они делают это по велению разума, но в чем причина таких любовных
порывов у животных, ты можешь сказать?
И я снова сказал, что не знаю.
- И ты рассчитываешь стать знатоком любви, - спросила она, – не
поняв этого?
- Но ведь я же, как я только что сказал, потому и хожу к тебе,
диотима, что мне нужен учитель. Назови же мне причину и этого и
всего другого, относящегося к любви!
- Так вот, – сказала она, – если ты убедился, что любовь по природе
своей – это стремление к тому, о чем мы не раз уже говорили, то и
тут тебе нечему удивляться. Ведь у животных, так же как и у людей,
смертная природа стремится стать по возможности бессмертной и
вечной. А достичь этого она может только одним путем – порождением,
оставляя всякий раз новое вместо старого; ведь даже за то время,
покуда о любом живом существе говорят, что оно живет и остается
самим собой – человек, например, от младенчества до старости
считается одним и тем же лицом, – оно никогда не бывает одним и тем
же, хоть и числится прежним, а всегда обновляется, что-то непременно
теряя, будь то волосы, плоть, кости, кровь или вообще все телесное,
да и не только телесное, но и то, что принадлежит душе: ни у кого не
остаются без перемен ни его привычки и нрав, ни мнения, ни желания,
ни радости, ни горести, ни страхи, всегда что-то появляется, а
что-то утрачивается. Еще удивительнее, однако, обстоит дело с нашими
знаниями: мало того что какие-то знания у нас появляются, а какие-то
мы утрачиваем и, следовательно, никогда не бываем прежними и в
отношении знаний, – такова же участь каждого вида знаний в
отдельности. То, что называется упражнением, обусловлено не чем
иным, как убылью знания, ибо забвение – это убыль какого-то знания,
а упражнение, заставляя нас вновь вспоминать забытое, сохраняет нам
знание настолько, что оно кажется прежним. Так вот, таким же образом
сохраняется и все смертное: в отличие от божественного, оно не
остается всегда одним и тем же, но, устаревая и уходя, оставляет
новое свое подобие. Вот каким способом, Сократ, - заключила она, –
приобщается к бессмертию смертное – и тело, и все остальное. другого
способа нет. Не удивляйся же, что каждое живое существо по природе
своей заботится о своем потомстве. Бессмертия ради сопутствует всему
на свете рачительная эта любовь.
Выслушав ее речь, я пришел в изумление и сказал:
- Да неужели, премудрая Диотима, это действительно так?
И она отвечала, как отвечают истинные мудрецы:
- Можешь быть уверен в этом, Сократ. Возьми людское честолюбие – ты
удивишься его бессмысленности, если не вспомнишь то, что я сказала,
и упустишь из виду, как одержимы люди желанием сделать громким свое
имя, "чтобы на вечное время стяжать бессмертную славу", ради которой
они готовы подвергать себя еще большим опасностям, чем ради своих
детей, тратить деньги, сносить любые тяготы, умереть, наконец. Ты
думаешь, – продолжала она, – Алкестиде захотелось бы умереть за
Адмета, Ахиллу – вслед за Патроклом, а вашему Кодру – ради будущего
царства своих детей, если бы все они не надеялись оставить ту
бессмертную память о своей добродетели, которую мы и сейчас
сохраняем? Я думаю, – сказала она, – что все делают все ради такой
бессмертной славы об их добродетели, и, чем люди достойнее, тем
больше они и делают. Бессмертие – вот чего они жаждут.
Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело, - продолжала она,
– обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь
деторождением приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе
память на вечные времена. Беременные же духовно – ведь есть и такие,
– пояснила она, - которые беременны духовно, и притом в большей даже
мере, чем телесно, – беременны тем, что как раз душе и подобает
вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разум и прочие
добродетели. Родителями их бывают все творцы и те из мастеров,
которых можно назвать изобретательными. Самое же важное и прекрасное
– это разуметь, как управлять государством и домом, и называется это
уменье рассудительностью и справедливостью. Так вот, кто смолоду
вынашивает духовные качества, храня чистоту и с наступлением
возмужалости, но испытывает страстное желание родить, тот, я думаю,
тоже ищет везде прекрасное, в котором он мог бы разрешиться от
бремени, ибо в безобразном он ни за что не родит. Беременный, он
радуется прекрасному телу больше, чем безобразному, но особенно рад
он, если такое тело встретится ему в сочетании с прекрасной,
благородной и даровитой душой: для такого человека он сразу находит
слова о добродетели, о том, каким должен быть и чему должен
посвятить себя достойный муж, и принимается за его воспитание.
Проводя время с таким человеком, он соприкасается с прекрасным и
родит на свет то, чем давно беремен. Всегда помня о своем друге, где
бы тот ни был – далеко или близко, он сообща с ним растит свое
детище, благодаря чему они гораздо ближе друг другу, чем мать и
отец, и дружба между ними прочнее, потому что связывающие их дети
прекраснее и бессмертнее. да и каждый, пожалуй, предпочтет иметь
таких детей, чем обычных, если подумает о Гомере, Гесиоде и других
прекрасных поэтах, чье потомство достойно зависти, ибо оно приносит
им бессмертную славу и сохраняет память о них, потому что и само
незабываемо и бессмертно. Или возьми, если угодно, – продолжала она,
– детей, оставленных Ликургом в Лакедемоне – детей, спасших
Лакедемон и, можно сказать, всю Грецию. В почете у вас и Солон,
родитель ваших законов, а в разных других местах, будь то у греков
или у варваров, почетом пользуется много других людей, совершивших
множество прекрасных дел и породивших разнообразные добродетели. Не
одно святилище воздвигнуто за таких детей этим людям, а за обычных
детей никому еще не воздвигали святилищ.
Во все эти таинства любви можно, пожалуй, посвятить и тебя, Сократ.
Что же касается тех высших и сокровеннейших, ради которых первые,
если разобраться, и существуют на свете, то я не знаю, способен ли
ты проникнуть в них. Сказать о них я, однако, скажу, – продолжала
она, – за мной дело не станет. Так попытайся же следовать за мной,
насколько сможешь.
Кто хочет избрать верный путь ко всему этому, должен начать с
устремления к прекрасным телам в молодости. Если ему укажут верную
дорогу, он полюбит сначала одно какое-то тело и родит в нем
прекрасные мысли, а потом поймет, что красота одного тела родственна
красоте любого другого и что если стремиться к идее прекрасного, то
нелепо думать, будто красота у всех тел не одна и та же. Поняв это,
он станет любить все прекрасные тела, а к тому одному охладеет, ибо
сочтет такую чрезмерную любовь ничтожной и мелкой. После этого он
начнет ценить красоту души выше, чем красоту тела, и, если ему
попадется человек хорошей души, но не такой уж цветущий, он будет
вполне доволен, полюбит его и станет заботиться о нем, стараясь
родить такие суждения, которые делают юношей лучше, благодаря чему
невольно постигнет красоту нравов и обычаев и, увидев, что все это
прекрасное родственно между собою, будет считать красоту тела чем-то
ничтожным. От нравов он должен перейти к наукам, чтобы увидеть
красоту наук и, стремясь к красоте уже во всем ее многообразии, не
быть больше ничтожным и жалким рабом чьей-либо привлекательности,
плененным красотой одного какого-то мальчишки, человека или
характера, а повернуть к открытому морю красоты и, созерцая его в
неуклонном стремлении к мудрости, обильно рождать великолепные речи
и мысли, пока наконец, набравшись тут сил и усовершенствовавшись, он
не узрит того единственного знания, которое касается прекрасного, и
вот какого прекрасного... Теперь, - сказала диотима, – постарайся
слушать меня как можно внимательнее.
Кто, наставляемый на пути любви, будет в правильном порядке
созерцать прекрасное, тот, достигнув конца этого пути, вдруг увидит
нечто удивительно прекрасное по природе, то самое, Сократ, ради чего
и были предприняты все предшествующие труды, – нечто, во-первых,
вечное, то есть не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни
оскудения, а во-вторых, не в чем-то прекрасное, а в чем-то
безобразное, не когда-то, где-то, для кого-то и сравнительно с
чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для другого и
сравнительно с другим безобразное. Прекрасное это предстанет ему не
в виде какого-то лица, рук или иной части тела, не в виде какой-то
речи или знания, не в чем-то другом, будь то животное, Земля, небо
или еще что-нибудь, а само по себе, всегда в самом себе
единообразное; все же другие разновидности прекрасного причастны к
нему таким образом, что они возникают и гибнут, а его не становится
ни больше ни меньше, и никаких воздействий оно не испытывает. И тот,
кто благодаря правильной любви к юношам поднялся над отдельными
разновидностями прекрасного и начал постигать самое прекрасное, тот,
пожалуй, почти у цели.Вот каким путем нужно идти в любви – самому
или под чьим-либо руководством: начав с отдельных проявлений
прекрасного, надо все время, словно бы по ступенькам, подниматься
ради самого прекрасного вверх – от одного прекрасного
тела к двум, от двух – ко всем, а затем от прекрасных тел к
прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока
не поднимешься от этих учений к тому, которое и есть учение о самом
прекрасном, и не познаешь наконец, что же это – прекрасное. И в
созерцании прекрасного самого по себе, дорогой Сократ, - продолжала
мантинеянка, – только и может жить человек, его увидевший. Ведь
увидев его, ты не сравнишь его ни со златотканой одеждой, ни с
красивыми мальчиками и юношами, при виде которых ты теперь приходишь
в восторг, и, как многие другие, кто любуется своими возлюбленными и
не отходит от них, согласился бы, если бы это было хоть
сколько-нибудь возможно, не есть и не пить, а только непрестанно
глядеть на них и быть с ними. Так что же было бы, – спросила она, –
если бы кому-нибудь довелось увидеть прекрасное само по себе
прозрачным, чистым, беспримесным, не обремененным человеческой
плотью, красками и всяким другим бренным вздором, если бы это
божественное прекрасное можно было увидеть во всем его единообразии?
Неужели ты думаешь, - сказала она, – что человек, устремивший к нему
взор, подобающим образом его созерцающий и с ним неразлучный, может
жить жалкой жизнью? Неужели ты не понимаешь, что, лишь созерцая
прекрасное тем, чем его и надлежит созерцать, он сумеет родить не
призраки добродетели, а добродетель истинную, потому что постигает
он истину, а не призрак? А кто родил и вскормил истинную
добродетель, тому достается в удел любовь богов, и если кто-либо из
людей бывает бессмертен, то именно он.
Вот что – да будет и тебе, Федр, и всем вам известно -
рассказала мне диотима, и я ей верю. А веря ей, я пытаюсь уверить и
других, что в стремлении человеческой природы к такому уделу у нее
вряд ли найдется лучший помощник, чем Эрот. Поэтому я утверждаю, что
все должны чтить Эрота и, будучи сам почитателем его владений и
всячески в них подвизаясь, я и другим советую следовать моему
примеру и, как могу, славлю могущество и мужество Эрота.
Если хочешь, Федр, считай эту речь похвальным словом Эроту, а нет –
назови ее чем угодно, как заблагорассудится.
Когда Сократ кончил, все стали его хвалить, а Аристофан
пытался что-то сказать, потому что в своем слове Сократ упомянул
одно место из его речи. Вдруг в наружную дверь застучали так громко,
словно явилась целая ватага гуляк, и послышались звуки флейты.
- Эй, слуги, – сказал Агафон, – поглядите, кто там, и, если кто из
своих, просите. А если нет, скажите, что мы уже не пьем, а прилегли
отдохнуть.
Вскоре со двора донесся голос Алкивиада, который был сильно пьян и
громко кричал, спрашивая, где Агафон, и требуя, чтобы его провели к
Агафону. Его провели к ним вместе с флейтисткой, которая
поддерживала его под руку, и другими его спутниками, и он, в
каком-то пышном венке из плюща и фиалок и с великим множеством лент
на голове, остановился в дверях и сказал:
- Здравствуйте, друзья! Примете ли вы в собутыльники очень пьяного
человека, или нам уйти? Но прежде мы увенчаем Агафона, ведь ради
этого мы и явились! Вчера я не мог прийти, - продолжал он, – зато
сейчас я пришел, и на голове у меня ленты, но я их сниму и украшу
ими голову самого, так сказать, мудрого и красивого. Вы смеетесь
надо мной, потому что я пьян? Ну что ж, смейтесь, я все равно
прекрасно знаю, что я прав. Но скажите сразу, входить мне на таких
условиях или лучше не надо? Будете вы пить со мной или нет?
Все зашумели, приглашая его войти и расположиться за столом, и
Агафон тоже его пригласил.
И тогда он вошел, поддерживаемый рабами, и сразу же стал снимать с
себя ленты, чтобы повязать ими Агафона; ленты свисали ему на глаза,
а потому он не заметил Сократа и сел рядом с Агафоном, между ним и
Сократом, который потеснился. Усевшись рядом с Агафоном, Алкивиад
поцеловал его и украсил повязками. И Агафон сказал:
- Разуйте, слуги, Алкивиада, чтобы он возлег с нами третьим.
- С удовольствием, – сказал Алкивиад, – но кто же наш третий
сотрапезник?
И, обернувшись, он увидел Сократа и, узнав его, вскочил на ноги и
воскликнул:
- О Геракл, что же это такое? Это ты, Сократ! Ты устроил мне засаду
и здесь. Такая уж у тебя привычка – внезапно появляться там, где
тебя никак не предполагаешь увидеть. Зачем ты явился на этот раз? И
почему ты умудрился возлечь именно здесь, не рядом с Аристофаном или
с кем-нибудь другим, кто смешон или нарочно смешит, а рядом с самым
красивым из всех собравшихся?
И Сократ сказал:
- Постарайся защитить меня, Агафон, а то любовь этого человека стала
для меня делом нешуточным. С тех пор как я полюбил его, мне нельзя
ни взглянуть на красивого юношу, ни побеседовать с каким-либо
красавцем, не вызывая неистовой ревности Алкивиада, который творит
невесть что, ругает меня и доходит чуть ли не до рукоприкладства.
Смотри же, как бы он и сейчас не натворил чего, помири нас, а если
он пустит в ход силу, заступить за меня, ибо я не на шутку боюсь
безумной влюбчивости этого человека.
- Нет, – сказал Алкивиад, – примирения между мной и тобой быть не
может, но за сегодняшнее я отплачу тебе в другой раз. А сейчас,
Агафон, – продолжал он, - дай мне часть твоих повязок, мы украсим
ими и эту удивительную голову, чтобы владелец ее не упрекал меня за
то, что тебя я украсил, а его, который побеждал своими речами
решительно всех, и притом не только позавчера, как ты, а всегда, -
его не украсил.
И, взяв несколько лент, он украсил ими Сократа и расположился за
столом.
А расположившись, сказал:
- Э, друзья, да вы, кажется, трезвы. Это не годится, надо пить,
такой уж у нас уговор. Пока вы как следует не напьетесь,
распорядителем пира буду я. Итак, пусть Агафон велит принести чару
побольше, если такая найдется. А впрочем, не нужно: лучше тащи-ка ты
сюда, мальчик, вон ту холодильную чашу, - сказал он, увидев, что в
нее войдет котил восемь, если не больше.
Наполнив ее, он выпил сначала сам, а потом велел налить Сократу,
сказав при этом:
- Сократу, друзья, затея моя нипочем. Он выпьет, сколько ему ни
прикажешь, и не опьянеет ни чуточки.
Мальчик наполнил чашу, и Сократ выпил.
Тогда Эриксимах сказал:
- Что же это такое, Алкивиад? Неужели мы не будем ни беседовать за
чашей, ни петь, а станем просто пить, как пьют для утоления жажды?
- А, Эриксимах, достойнейший сын достойнейшего и благоразумнейшего
отца! Здравствуй, Эриксимах, - отозвался Алкивиад.
- Здравствуй, здравствуй, – сказал Эриксимах. – Но как же нам быть?
- Как ты прикажешь. Ведь тебя надо слушаться.
Стоит многих людей один врачеватель искусный.
Распоряжайся, как тебе будет угодно.
- Так слушай же, – сказал Эриксимах. – до твоего прихода мы решили,
что каждый из нас по очереди, начиная справа, скажет, как можно
лучше, речь об Эроте и прославит его. И вот, все мы уже свое
сказали. Ты же не говорил, а выпить выпил. Поэтому было бы
справедливо, чтобы ты ее произнес, а произнеся, дал любой наказ
Сократу, а тот потом своему соседу справа, и так далее.
- Все это прекрасно, – отвечал Алкивиад, – но пьяному не по силам
тягаться в красноречии с трезвым. А кроме того, дорогой мой, неужели
ты поверил всему, что Сократ сейчас говорил? Разве ты не знаешь: что
бы он тут ни говорил, все обстоит как раз наоборот. Ведь это он,
стоит лишь мне при нем похвалить не его, а кого-нибудь другого, бога
ли, человека ли, сразу же дает волю рукам.
- Молчал бы лучше, – сказал Сократ.
- Нет, что бы ты ни говорил, – возразил Алкивиад, – я никого не
стану хвалить в твоем присутствии, клянусь Посейдоном.
- Ну что ж, – сказал Эриксимах, – в таком случае воздай хвалу
Сократу.
- Что ты, Эриксимах! – воскликнул Алкивиад. - Неужели, по-твоему, я
должен напасть на него и при вас отомстить ему?
- Послушай, – сказал Сократ, – что это ты задумал? Уж не собираешься
ли ты высмеять меня в своем похвальном слове?
- Я собираюсь говорить правду, да не знаю, позволишь ли.
- Правду, – ответил Сократ, – я не только позволю, но и велю
говорить.
Речь
Алкивиада: панегирик Сократу.
- Ну что ж, не премину, – сказал Алкивиад. – А ты поступай вот как.
Едва только я скажу неправду, перебей меня, если захочешь, и заяви,
что тут я соврал, – умышленно врать я не стану. Но если я буду
говорить несвязно, как подскажет память, не удивляйся. Не так-то
легко перечислить по порядку все твои странности, да еще в таком
состоянии.
Хвалить же, друзья мои, Сократа я попытаюсь путем сравнений.
Он, верно, подумает, что я хочу посмеяться над ним, но к сравнениям
я намерен прибегать ради истины, а совсем не для смеха.
Более всего, по-моему, он похож на тех силенов, какие бывают в
мастерских ваятелей и которых художники изображают с какой-нибудь
дудкой или флейтой в руках. Если раскрыть такого силена, то внутри у
него оказываются изваяния богов. Так вот, Сократ похож, по-моему, на
сатира Марсия. Что ты сходен с силенами внешне, Сократ, этого ты,
пожалуй, и сам не станешь оспаривать. А что ты похож на них и в
остальном, об этом послушай. Скажи, ты дерзкий человек или нет? Если
ты не ответишь утвердительно, у меня найдутся свидетели. далее,
разве ты не флейтист? Флейтист, и притом куда более достойный
удивления, чем Марсий. Тот завораживал людей силой своих уст, с
помощью инструмента, как, впрочем, и ныне еще любой, кто играет его
напевы. Те, которые играл Олимп, я, кстати сказать, тоже приписываю
Марсию, как его учителю. Так вот, только напевы Марсия, играет ли их
хороший флейтист или плохая флейтистка, одинаково увлекают
слушателей и, благодаря тому что они сами божественны, обнаруживают
тех, кто испытывает потребность в богах и таинствах. Ты же ничем не
отличаешься от Марсия, только достигаешь того же самого без всяких
инструментов, одними речами. Когда мы, например, слушаем речь
какого-нибудь другого оратора, даже очень хорошего, это никого из
нас, правду сказать, не волнует. А слушая тебя или твои речи в
чужом, хотя бы и очень плохом, пересказе, все мы, мужчины, и
женщины, и юноши, бываем потрясены и увлечены.
Что касается меня, друзья, то я, если бы не боялся
показаться вам совсем пьяным, под клятвой рассказал бы вам, что я
испытывал, да и теперь еще испытываю, от его речей. Когда я слушаю
его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся
корибантов, а из глаз моих от его речей льются слезы; то же самое,
как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Перикла и других
превосходных ораторов, я находил, что они хорошо говорят, но ничего
подобного не испытывал, душа у меня не приходила в смятение, негодуя
на рабскую мою жизнь. А этот Марсий приводил меня часто в такое
состояние, что мне казалось – нельзя больше жить так, как я живу. И
ты, Сократ, не скажешь, что это неправда. да я и сейчас отлично
знаю, что стоит лишь мне начать его слушать, как я не выдержу и
впаду в такое же состояние. Ведь он заставит меня признать, что при
всех моих недостатках я пренебрегаю самим собою и занимаюсь делами
афинян. Поэтому я нарочно не слушаю его и пускаюсь от него, как от
сирен, наутек, иначе я до самой старости не отойду от него. И
только перед ним одним испытываю я то, чего вот уж никто бы за мною
не заподозрил, – чувство стыда. Я стыжусь только его, ибо сознаю,
что ничем не могу опровергнуть его наставлений, а стоит мне покинуть
его, соблазняюсь почестями, которые оказывает мне большинство. да,
да, я пускаюсь от него наутек, удираю, а когда вижу его, мне
совестно, потому что я ведь был с ним согласен. И порою мне даже
хочется, чтобы его вообще не стало на свете, хотя, с другой стороны,
отлично знаю, что, случись это, я горевал бы гораздо больше. Одним
словом, я и сам не ведаю, как мне относиться к этому человеку. Вот
какое действие оказывает на меня и на многих других звуками своей
флейты этот сатир. Послушайте теперь, как похож он на то, с чем я
сравнил его, и какой удивительной силой он обладает. Поверьте, никто
из вас не знает его, но я, раз уж начал, покажу вам, каков он.
Вы видите, что Сократ любит красивых, всегда норовит побыть с ними,
восхищается ими, и в то же время ничего-де ему не известно и ни в
чем он не смыслит. Не похож ли он этим на силена? Похож, и еще как!
Ведь он только напускает на себя такой вид, поэтому он и похож на
полое изваяние силена. А если его раскрыть, сколько
рассудительности, дорогие сотрапезники, найдете вы у него внутри! да
будет вам известно, что ему совершенно неважно, красив человек или
нет, – вы даже не представляете себе, до какой степени это
безразлично ему, – богат ли и обладает ли каким-нибудь другим
преимуществом, которое превозносит толпа. Все эти ценности он ни во
что не ставит, считая, что и мы сами – ничто, но он этого не
говорит, нет, он всю свою жизнь морочит людей притворным
самоуничижением.
Не знаю, доводилось ли кому-либо видеть таящиеся в нем
изваяния, когда он раскрывался по-настоящему, а мне как-то раз
довелось, и они показались мне такими божественными, золотыми,
прекрасными и удивительными, что я решил сделать вскорости все, чего
Сократ ни потребует. Полагая, что он зарится на цветущую мою
красоту, я счел ее счастливым даром и великой своей удачей: ведь
благодаря ей я мог бы, уступив Сократу, услыхать от него все, что он
знает. Вот какого я был о своей красоте невероятного мнения. С
такими-то мыслями я однажды и отпустил провожатого, без которого я
до той поры не встречался с Сократом, и остался с ним с глазу на
глаз – скажу уж вам, так и быть, всю правду, поэтому будьте
внимательны, а ты, Сократ, если совру, поправь меня.
Итак, друзья, мы оказались наедине, и я ждал, что
вот-вот он заговорит со мной так, как говорят без свидетелей
влюбленные с теми, в кого они влюблены, и радовался заранее. Но
ничего подобного не случилось: проведя со мной день в обычных
беседах, он удалился. После этого я пригласил его поупражняться
вместе в гимнастике и упражнялся с ним вместе, надеясь тут чего-то
добиться. И, упражняясь, он часто боролся со мной, когда никого
поблизости не было. И что же? На том все и кончилось. Ничего таким
путем не достигнув, я решил пойти на него приступом и не отступать
от начатого, а узнать наконец, в чем тут дело. И вот я приглашаю его
поужинать со мной – ну прямо как влюбленный, готовящий ловушку
любимому. даже эту просьбу выполнил он не сразу, но в конце концов
все-таки принял мое приглашение. Когда он явился в первый раз, он
после ужина пожелал уйти, и я, застеснявшись, тогда отпустил его.
Залучив его к себе во второй раз, я после ужина болтал с ним до
поздней ночи, а когда он собрался уходить, я сослался на поздний час
и заставил его остаться. Он лег на соседнее с моим ложе, на котором
возлежал и во время обеда, и никто, кроме нас, в комнате этой не
спал...
Все, что я сообщил до сих пор, можно смело рассказывать кому
угодно, а вот дальнейшего вы не услышали бы от меня, если бы,
во-первых, вино не было, как говорится, правдиво, причем не только с
детьми, но и без них, а во-вторых, если бы мне не казалось
несправедливым замалчивать великолепный поступок Сократа, раз уж я
взялся произнести ему похвальное слово. Вдобавок я испытываю сейчас
то же, что человек, укушенный гадюкой. Говорят, что тот, с кем это
случилось, рассказывает о своих ощущениях только тем, кто испытывал
то же на себе, ибо только они способны понять его и простить, что бы
они ни наделал и ни наговорил от боли. Ну, я был укушен
чувствительнее, чем кто бы то ни было, и притом в самое
чувствительное место – в сердце, в душу - называйте как хотите,
укушен и ранен философскими речами, которые впиваются в молодые и
достаточно одаренные души сильней, чем змея, и могут заставить
делать и говорить все, что угодно. С другой стороны, передо мной
сейчас такие люди, как Федр, Агафон, Эриксимах, Павсаний, Аристодем,
Аристофан и другие, не говоря уже о самом Сократе: все вы одержимы
философским неистовством, а потому и слушайте все! Ведь вы простите
мне то, что я тогда сделал и о чем сейчас расскажу. Что же касается
слуг и всех прочих непосвященных невежд, то пусть они свои уши
замкнут большими вратами.
Итак, когда светильник погас и слуги вышли, я решил не
хитрить с ним больше и сказать о своих намерениях без обиняков.
- Ты спишь, Сократ? – спросил я, потормошив его.
- Нет еще, – отвечал он.
- Ты знаешь, что я задумал?
- Что же? – спросил он.
- Мне кажется, – отвечал я, – что ты единственный достойный меня
поклонник, и, по-моему, ты не решаешься заговорить об этом со мной.
Что же до меня, то, на мой взгляд, было бы величайшей глупостью
отказать тебе в этом: ведь я не отказал бы тебе, нуждайся ты в моем
имуществе или в моих друзьях. для меня нет ничего важнее, чем
достичь как можно большего совершенства, а тут, я думаю, мне никто
не сумеет помочь лучше тебя. Вот почему, откажи я такому человеку, я
гораздо больше стыдился бы людей умных, чем стыдился бы глупой
толпы, ему уступив.
На это он ответил с обычным своим лукавством:
- Дорогой мой Алкивиад, ты, видно, и в самом деле не глуп, если то,
что ты сказал обо мне, – правда, и во мне действительно скрыта
какая-то сила, которая способна сделать тебя благороднее, – то есть
если ты усмотрел во мне какую-то удивительную красоту, совершенно
отличную от твоей миловидности. Так вот, если, увидев ее, ты
стараешься вступить со мною в общение и обменять красоту на красоту,
- значит, ты хочешь получить куда большую, чем я, выгоду, приобрести
настоящую красоту ценой кажущейся и задумал поистине выменять медь
на золото. Но приглядись ко мне получше, милейший, чтобы от тебя не
укрылось мое ничтожество. Зрение рассудка становится острым тогда,
когда глаза начинают уже терять свою зоркость, а тебе до этого еще
далеко.
На это я ответил ему:
- Ну что ж, я, во всяком случае, сказал то, что думал. А уж ты сам
решай, как будет, по-твоему, лучше и мне и тебе.
- Вот это, – сказал он, – правильно. И впредь мы будем сначала
советоваться, а потом уже поступать так, как нам покажется лучше, –
и в этом деле, и во всех остальных.
Обменявшись с ним такими речами, я вообразил, что мои
слова ранили его не хуже стрел. Я встал и, не дав ему ничего
сказать, накинул этот свой гиматий - дело было зимой – лег под его
потертый плащ и, обеими руками обняв этого поистине божественного,
удивительного человека, пролежал так всю ночь. И на этот раз,
Сократ, ты тоже не скажешь, что я лгу. Так вот, несмотря на все эти
мои усилия, он одержал верх, пренебрег цветущей моей красотой,
презрительно посмеялся над ней. А я-то думал, что она хоть что-то да
значит, судьи, - да, да, судьи Сократовой заносчивости, – ибо,
клянусь вам всеми богами и богинями, – проспав с Сократом всю ночь,
я встал точно таким же, как если бы спал с отцом или со старшим
братом.
В каком я был, по-вашему, после этого расположении
духа, если, с одной стороны, я чувствовал себя обиженным, а с другой
– восхищался характером, благоразумием и мужественным поведением
этого человека, равного которому по силе ума и самообладанию я
никогда до сих пор и не чаял встретить? Я не мог ни сердиться на
него, ни отказаться от его общества, а способа привязать его к себе
у меня не было. Ведь я же прекрасно знал, что подкупить его деньгами
еще невозможнее, чем ранить Аякса мечом, а когда я пустил в ход то,
на чем единственно надеялся поймать его, он ускользнул от меня. Я
был беспомощен и растерян, он покорил меня так, как никто никогда не
покорял.
Все это произошло еще до того, как нам довелось
отправиться с ним в поход на Потидею и вместе там столоваться. Начну
с того, что выносливостью он превосходил не только меня, но и вообще
всех. Когда мы оказывались отрезаны и поневоле, как это бывает в
походах, голодали, никто не мог сравниться с ним выдержкой. Зато
когда всего было вдоволь, он один бывал способен всем насладиться;
до выпивки он не был охотник, но уж когда его принуждали пить,
оставлял всех позади, и, что самое удивительное, никто никогда не
видел Сократа пьяным. Это, кстати сказать, наверно, и сейчас
подтвердится. Точно так же и зимний холод - а зимы там жестокие – он
переносил удивительно стойко, и однажды, когда стояла страшная стужа
и другие либо вообще не выходили наружу, либо выходили, напялив на
себя невесть сколько одежды и обуви, обмотав ноги войлоком и
овчинами, он выходил в такую погоду в обычном своем плаще и босиком
шагал по льду легче, чем другие обувшись. И воины косо глядели на
него, думая, что он глумится над ними... Но довольно об этом.
Послушайте теперь
...что он, дерзко-решительный муж, наконец предпринял и исполнил во
время того же похода. Как-то утром он о чем-то задумался и,
погрузившись в свои мысли, застыл на месте, и, так как дело у него
не шло на лад, он не прекращал своих поисков и все стоял и стоял.
Наступил уже полдень, и люди, которым это бросалось в глаза,
удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на
одном месте и о чем-то раздумывает. Наконец вечером, уже поужинав,
некоторые ионийцы – дело было летом - вынесли свои подстилки на
воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом,
будет ли он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он
простоял там до рассвета и до восхода Солнца, а потом, помолившись
Солнцу, ушел.
А хотите знать, каков он в бою? Тут тоже
нужно отдать ему должное. В той битве, за которую меня наградили
военачальники, спас меня не кто иной, как Сократ: не захотев бросить
меня, раненого, он вынес с поля боя и мое оружие, и меня самого. Я и
тогда, Сократ, требовал от военачальников, чтобы они присудили
награду тебе, – тут ты не можешь ни упрекнуть меня, ни сказать, что
я лгу, – но они, считаясь с моим высоким положением, хотели
присудить ее мне, а ты сам еще сильней, чем они, ратовал за то,
чтобы наградили меня, а не тебя.
Особенно же стоило посмотреть на Сократа, друзья,
когда наше войско, обратившись в бегство, отступало от делия. Я был
тогда в коннице, а он в тяжелой пехоте. Он уходил вместе с Лахетом,
когда наши уже разбрелись. И вот я встречаю обоих и, едва их
завидев, призываю их не падать духом и говорю, что не брошу их. Вот
тут-то Сократ и показал мне себя с еще лучшей стороны, чем в Потидее,
– сам я был в меньшей опасности, потому что ехал верхом. Насколько,
прежде всего, было у него больше самообладания, чем у Лахета.
Кроме того, мне казалось, что и там, так же как здесь,
он шагал, говоря твоими, Аристофан, словами, "чинно глядя то влево,
то вправо", то есть спокойно посматривал на друзей и на врагов, так
что даже издали каждому было ясно, что этот человек, если его
тронешь, сумеет постоять за себя, и поэтому оба они благополучно
завершили отход. Ведь тех, кто так себя держит, на войне обычно не
трогают, преследуют тех, кто бежит без оглядки.
В похвальном слове Сократу можно назвать и много
других удивительных его качеств. Но иное можно, вероятно, сказать и
о ком-либо другом, а вот то, что он не похож ни на кого из людей,
древних или ныне здравствующих, – это самое поразительное. С
Ахиллом, например, можно сопоставить Брасида и других, с Периклом –
Нестора и Антенора, да и другие найдутся; и всех прочих тоже можно
таким же образом с кем-то сравнить. А Сократ и в повадке своей, и в
речах настолько своеобычен, что ни среди древних, ни среди ныне
живущих не найдешь человека, хотя бы отдаленно похожего на него.
Сравнивать его можно, как я это и делаю, не с людьми, а с силенами и
сатирами – и его самого, и его речи.
Кстати сказать, вначале я не упомянул, что и речи его
больше всего похожи на раскрывающихся силенов. В самом деле, если
послушать Сократа, то на первых порах речи его кажутся смешными: они
облечены в такие слова и выражения, что напоминают шкуру этакого
наглеца-сатира. На языке у него вечно какие-то вьючные ослы,
кузнецы, сапожники и дубильщики, и кажется, что говорит он всегда
одними и теми же словами одно и то же, и поэтому всякий неопытный и
недалекий человек готов поднять его речи на смех. Но если раскрыть
их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и
содержательны, а потом, что речи эти божественны, что они таят в
себе множество изваяний добродетели и касаются множества вопросов,
вернее сказать, всех, которыми подобает заниматься тому, кто хочет
достичь высшего благородства.
Вот что я могу сказать в похвалу Сократу, друзья,
и, с другой стороны, в упрек ему, поскольку попутно я рассказал вам,
как он меня обидел. Обошелся он так, впрочем, не только со мной, но
и с Хармидом, сыном Главкона, и с Эвтидемом, сыном дикола, и со
многими другими: обманывая их, он ведет себя сначала как их
поклонник, а потом сам становится скорее предметом любви, чем
поклонником. Советую и тебе, Агафон, не попадаться ему на удочку, а,
зная наш опыт, быть начеку, чтобы не подтвердить поговорки: "Горьким
опытом дитя учится".
Заключительная сцена.
Когда Алкивиад кончил, все посмеялись по поводу его
откровенных признаний, потому что он все еще был, казалось, влюблен
в Сократа. А Сократ сказал:
- Мне кажется, Алкивиад, что ты совершенно трезв. Иначе бы так хитро
не крутился вокруг да около, чтобы затемнить то, ради чего ты все
это говорил и о чем как бы невзначай упомянул в конце, словно всю
свою речь ты произнес не для того, чтобы посеять рознь между мною и
Агафоном, считая, что я должен любить тебя, и никого больше, а
Агафона – ты и больше никто. Но хитрость эта тебе не удалась, смысл
твоей сатиро-силеновской драмы яснее ясного. Так не дай же ему,
дорогой Агафон, добиться своего, смотри, чтобы нас с тобой никто не
поссорил.
- Пожалуй, ты прав, Сократ, – сказал Агафон. - Наверное, он для того
и возлег между мной и тобой, чтобы нас разлучить. Так вот, назло
ему, я пройду к тебе и возлягу рядом с тобой.
- Конечно, – отвечал Сократ, – располагайся вот здесь, ниже меня.
- О Зевс! – воскликнул Алкивиад. – Как он опять со мной обращается!
Он считает своим долгом всегда меня побивать. Но пусть тогда Агафон
возляжет хотя бы уж между нами, поразительный ты человек!
- Нет, так не выйдет, – сказал Сократ. – Ведь ты же произнес
похвальное слово мне, а я в свою очередь должен воздать хвалу своему
соседу справа. Если же Агафон возляжет ниже тебя, то ему придется
воздавать мне хвалу во второй раз, не услыхав моего похвального
слова ему. Уступи же, милейший, и не завидуй этому юноше, когда я
буду хвалить его. А мне очень хочется произнести в его честь
похвальное слово.
- Увы, Алкивиад! – воскликнул Агафон. – Остаться здесь мне никак
нельзя, теперь-то уж я непременно пересяду, чтобы Сократ произнес в
мою честь похвальное слово.
- Обычное дело, – сказал Алкивиад. – Где Сократ, там другой на
красавца лучше не зарься. Вот и сейчас он без труда нашел
убедительный предлог уложить Агафона возле себя.
После этого Агафон встал, чтобы возлечь рядом с
Сократом. Но вдруг к дверям подошла большая толпа веселых гуляк и,
застав их открытыми, – кто-то как раз выходил, – ввалилась прямо в
дом и расположилась среди пирующих. Тут поднялся страшный шум, и
пить уже пришлось без всякого порядка, вино полилось рекой.
Эриксимах, Федр и некоторые другие ушли, по словам Аристодема,
домой, а сам он уснул и проспал очень долго, тем более что ночи
тогда были длинные.
Проснулся он на рассвете, когда уже пели петухи, а проснувшись,
увидел, что одни спят, другие разошлись по домам, а бодрствуют еще
только Агафон, Аристофан и Сократ, которые пьют из большой чаши,
передавая ее по кругу слева направо, причем Сократ ведет с ними
беседу. Всех его речей Аристодем не запомнил, потому что не слыхал
их начала и к тому же подремывал. Суть же беседы, сказал он,
состояла в том, что Сократ вынудил их признать, что один и тот же
человек должен уметь сочинить и комедию и трагедию и что искусный
трагический поэт является также и поэтом комическим. Оба по
необходимости признали это, уже не очень следя за его рассуждениями:
их клонило ко сну, и сперва уснул Аристофан, а потом, когда уже
совсем рассвело, Агафон.
Сократ же, оставив их спящими, встал и ушел, а он,
Аристодем, по своему обыкновению, за ним последовал. Придя в Ликей и
умывшись, Сократ провел остальную часть дня обычным образом, а к
вечеру отправился домой отдохнуть.