|
Школа "анналов": в
поисках утраченного факта (продолжение).
М. Кошкин (21/10/02)
К логике снятия истории
культурой.
  В гегелевской философии создана
внятная предметно-познавательная
терминология. Автор современного
словаря по терминологии Гегеля, А.Д.
Власов, термин «снятие»
демонстрирует на схемах. Он сравнивает
два типа определённости - предметную и
субъективную.
В гегелевской философии создана
внятная предметно-познавательная
терминология. Автор современного
словаря по терминологии Гегеля, А.Д.
Власов, термин «снятие»
демонстрирует на схемах. Он сравнивает
два типа определённости - предметную и
субъективную.
Если в первой, субъективной
определённости элементы
определённости структурно связаны
только с "Я", а связи между ними
отсутствуют, то напротив, в предметной
структурной форме эти же определённые
элементы связаны только между собой, а
"Я" и связи с ним отсутствуют. На
рисунках это хорошо видно.
Важно, что сами эти элементы
определённости в процессе предметного
познания остаются одними и теми же. То,
что в предметной форме они скреплены
между собою, приводит к возникновению
"жесткости и неподатливости всей
структуры в целом, что, например,
характерно для реальности." В
субъективной форме элементы не
скреплены между собой, но только с
субъектом, "отсюда относительная
свобода комбинации элементов, что
например свойственно воображению и
знанию вообще". Процесс перехода от
предметной к субъективной форме
определённости и есть снятие."
Результат обратного процесса Гегель
называл положенностью.
Снятое приобретает особое
значение при изложении содержания,
непрерывно переходящего из одной формы,
снятости, в другую форму,
положенность, (например доказанное), и
наоборот ( когда оно снимается,
превращаясь во что-то субъективное и
требующее иных доказательств).
В некоторых случаях указанное
содержательное различение может
оказываться полезным. Рассмотрим
теперь последовательное становление
культурного факта и высвобождение его
из-под власти вне-исторического.
«Сначала было…» безымянное,
мифологическое полотно жизни. Быт,
скрытые и полу-проявленные характеры.
Голая действительность.
Положенный миф снимается
текстом: писатель выводит его на
историческую поверхность. В тексте миф
оказывается максимально ярким и остро
выраженным, сама действительность
узнаёт себя, глядя ( читая ) его творение.
Положенный текст снимается индивидуальной
критической рефлексией. Критик (
читатель) спустя некоторое время,
произведение диффундирует в историю с
ближайшим к нему культурным окружением.
( рецензия, успех, провал, премия и др.)
Создаётся первая историко-культурная
оценка текста..
Положенный в текстах миф
снимается философом, но при этом ещё
более утверждается, объективируется
им в истории. Философ, всегда
субъективный, снимает все отдельные
критические оценки, своим дискурсом
создавая ценность, - идеально
выраженный, явленный лик современности.
Для этого ему приходится заниматься
действительным, ставшим, а не
становящимся . История остаётся той
полной неизвестностью завтрашнего, и
той неизбежностью завтрашнего, тем
материалом истории, который очевидно
требует себе иного исследовательского
горизонта. Слишком мал культурный и
философский «вес» становящегося
смысла перед ставшим, фактическим,
законченным. Философ перекрывает своей
отчётливо-видящий и так же безотчётно
невидящей фигурой весь исторический
горизонт. Последнему нужен иной
познавательный «статус», и это есть
статус действительно становящегося, а
не просто ставшего действительным.
Здесь у философа возникает дополняющее
философское начало субъективного
познания истории, но разворачиваясь
на другом горизонте, уже как
историческое исследование.
На историческом горизонте,
однако, философу не просто «отделаться»
от убеждающего его различения
действительности, и он переносит философское
обобщение на историю, пытаясь
осмыслить судьбы народов, цивилизаций,
грядущее, пробуя закрывать лакуны и
белые пятна истории, исходя из своих
понятий, терминов, философских
приоритетов. Это рубеж историософского
анализа. Философ тут ещё всецело
философ, и ставшее для него, - только
категория из концепции, пусть и ведущая
категория, но «одна из». Положенный им в
основание современный ценностный миф
не только вершина горизонта, с которой
он смотрит. Но, других вершин у
историософа и не может быть - философ
специально «залез» на эту гору, чтобы
видеть далёкие «горизонты
исторического». История, т.о. здесь снимается
ещё философски. Точнее, культурно-философски,
в силу неизбежно появляющихся многих
культурно-исторических оценок и их
морфологизации.
Продолжая предыдущую метафору
«горизонта» и «горы», об историке было
бы удобно сказать как о том, кто с этой
горы слез. Или никогда на неё не
поднимался, в том смысле, что уже нет
того удобного «вида». Он пробует «пройти»
тот маршрут, который наметил наверху.
На каждом углу его подстерегают
опасности, ходить как-то непривычно, да
и размеры вещей изменились, особенно,
если учесть, что собственная гора
однажды может пропасть из виду вовсе,
когда заходишь слишком «далеко». В
отличие от историософа, историк
действительно пробует снять
современный миф, у него возникает
новый «род» исследования, другая
познавательная фактура - материал
истории, факт, источник, памятник. Он
исследует, спускается с философского
холма к фактам, он их ищет, а не
рассматривает по карте с «высокой горы».
Что же ищет историк ? «Выжимая»
факт в текст, последний он пробует
толковать в связи с недостающими и
имеющимися под рукой соседними
текстами. В итоге, изучаемая эпоха всё
время скрывается от него, фокусируясь в
набор редчайших исторических «артефактов»,
загадок или белых пятен, которые ищут.
Здесь в центре голый, тупой,
неосмысленный факт, «находка» как цель.
С другой стороны, изучаемая эпоха как
бы исторически исчезает, уходит из под
ног между «здесь» и «там». Историка
нету там, а отсюда туда - он
точно «вышел». И хотя смысл
исследуемого текста им выносится к
соседним текстам, - окончательно он
никогда не может быть получен,
ускользая в новый смысл, изменяющий
оттенки объективно «чужого» текста.
Именно в неявном отталкивании от такой,
раз-ориентированной, истории
набирает очки и крепнет историософия,
её «высокогорье», её культурный синтез,
вовсю использующий и обобщающий
некритические факты. И «плохой»
историк не в силах противостоять в себе
«могуществу» историософии. Факты
становятся ещё более первичными и
крепкими, в степени и в направлении историософской
ориентации такого историка. Но и «хороший»
историк, остерегающийся философии,
остаётся критиком текста. Уже не
философ, но ещё критик! - он сидит на «том
же холме». Они начинают обслуживать не
собственный горизонт истории, а лишь
подчёркивают «все-могущество» этой
историософской культурной горы,
подчёркивают её перспективу, тени,
точно описывают её подножье и т.п..
Горизонт - важен как фон этой горы, и
только.
Историк анналистического типа,
каковым представляется учёный
французской школы «Анналов», с самого
начала признаёт невозможность
проникнуть в давно закрывшееся и
скрытое в истории. Равно как и
ретранслировать чужую эпоху в
сегодняшние смыслы, а если возможно, то
только поверхностный и произвольный
элемент её. Всё это около-исторические,
приблизительные методы и оценки. Он
отказывается и от маниакальной
озабоченности источниками, и, «честно»
раскрывая глаза настоящему, объявляет
его существенно историческим !
Ведь в отличие от чужой эпохи,
современный историзм как раз пониманию
принципиально доступен. И в
разрешении исторических проблем, в «поисках
утраченного смысла», анналист может
использовать всё существенно
историческое, - от слухов и современных
психологических представлений, до
любых текстов и фактов, важным теперь
стало само историческое понимание.
Воронка, в которую втягивает его центр
исторического «расследования»,
балансируется точностью и
актуальностью изначального вопроса.
Если миф когда-то выразился в текст,
то здесь происходит нечто обратное -
вопрос втягивает исследователя в
конкретно различаемый им миф, его
материальную картину. Узнаваемая
историческая фактура - вот чему
посвящаются его писательская фраза,
познавательный ритм и историческое
чутьё.
Именно поэтому
анналистические исследования и
выверено написанная литература, и есть
методически-эмпатическое наведение
фактурного смысла истории. Важно
узнать, а не знать решение. Истолковать
миф не только во внутрикультурном
аспекте, не находящем достаточной
правды, сколько на его границах.
Поэтому и «Логика толпы» - отчасти полу-популярное
чтение. И книга, которую интересно было
бы представить именно в
анналистическом ключе, которая
заслужила много заслуженных и не очень,
упрёков от самых маститых историков,
написана легко - это «Ледокол» Суворова.
Почему «Ледокол» неявно анналистичен ?
Потому что он методически сходно
выполнен - все главы, и каждая
собственной темой, отвечают на один и
тот же вопрос. В результате получается многоаргументный ответ на
поставленный вопрос-проблему, - «нападал
ли Гитлер на Советский Союз». А
поскольку ответ даётся в ходе
исследования Суворовым прямо
противоположный, эффект от такого
разыскания особенно резок и
исторически «цепок».
Исторический миф оказывается
для анналиста мифом современным, и
горизонт истории возвращает философа,
когда-то пустившегося в поисках
утраченного «факта», к себе самому, т.е.
в личную мифически-невыраженную до-культурную
тьму, в меон, где он никак не философ
и не писатель и не историк, а только
человек, сложивший с себя символы
культуры ради горизонта иного. Концы
сходятся - вопрошание анналиста,
проникновение в чужую эпоху, - по
сути оказывается проникновением в свою
неразличимость. Ведь, столкнувшись с
историческим пониманием, анналист
оказывается снова во тьме, и он снова
вынужден строить культурную оценку,
снова совершать очередные шаги на
горизонте истории, чтобы понять
поступки, ситуации, прецеденты. Отсюда
неизбежность историку-анналисту быть
критиком, философом, историософом,
художником, чтобы подобные оценки не
довлели внутри исторического дискурса.
Он хочет признать и овладеть
современностью - чтобы в ней ощутить
историческое. «История - это духовная
форма, в которой культура отдаёт себе
отчёт о своём прошлом» (Й. Хейзинга)
Конечно, новое историческое
сознание всецело обязано бурной
философской критике исторической
науки, в начале века. Это Б. Кроче, чья «Теория
историографии» диалектически выделила
жанровые формы вне-исторического
описания - поэтическую историю,
идеологию, хронологию, и т.д. «Логика
истории» Трёльча, выполненная в
неокантианском духе, разрабатывавшая
Дильтеевскую проблему наук о духе.
Литературные исследования
средневековья Йозефом Хейзингой. Хотя
Жак
ле Гофф, говоря о Хейзинге и о
возможном его влиянии на «Анналы»,
заметил критически, что «при явной
тенденции к междисциплинарному
подходу, всё же у Хейзинги в структуре
исторического знания психология
остаётся «литературной», этнология - «философской»,
философия - «морализирующей»».
Если заканчивать метафору,
можно сказать, что историк «Анналов»
спрыгнул с поезда, который катался
вокруг да около культурно-философского
холма по позитивистическим рельсам. С
собой он прихватил только необходимое -
- ружьё, котелок, зажигалку и т.п., для
самостоятельной жизни в тёмном лесу,
всё это наиболее ценное, прикупив
загодя на родном холме. И быстро
скрылся в обступившем его, выросшем за
годы и годы, лесу. Так и ходит он меж
холмов и весей, уже ничего не собирая,
иногда лишь взбираясь и затем снова
спускаясь с холмов в низменности и
долины, встречая завтрашний день по
дороге за горизонт.
Всякий раз рефлексия над
содержанием, или наоборот
опредмечивание, изменяет его, привнося
(«снимая») содержательность в
данную («положенную») действительность.
Культура исторического предстаёт в
виде следующей последовательности
культурного предмета:

Верхний по рисунку
терминологический ряд, до и вне
горизонта истории, опирается/обращён к
первоначальному художественно-выразительному,
к тексту. Нижний, преследует/исследует факт
истории, так никогда и не достигая/постигая
его на одном только горизонте
исторического. Объективация культуры
снимается противоходом
исследовательской субъективации,
возможной на горизонте истории.
Заметим, что наличие
тенденциозной историософии,
только помогает историкам-анналистам,
«убегая» от неё как от идеологической
чумы, оценивать характер философской
обусловленности, выделяя вещи
догматические, мешающие, и вещи
герменевтике полезные. Например, «Анналитики»
послевоенного периода в качестве
насущной избрали стратегию различной «длительности
времён истории» (Ф. Бродель), на
передний план выдвинув параметры
экономики, заселённости, характера
ландшафта, - таким был существенный
выбор критериев, кстати, многими в
школе порицавшийся за отступление от
ранних традиций Л. Февра.
Точно также наличие «предрассудков»
обычной истории фактов способно
помогать поиску. Впервые констатировал
предваряющее наше понимание предвзятое,
«чужое мнение», Гадамер: «признание
существенной предрассудочности
всякого понимания сообщает
герменевтической проблеме
действительную остроту. И на самом деле,
предрассудок приобрёл для нас
негативный смысл лишь благодаря
Просвещению. Сам по себе «предрассудок»,
vorurteil, означает всего лишь «пред-суждение»,
т.е. суждение, вынесенное до
окончательной проверки «всех
фактически определяющих моментов». «Предрассудок»
вовсе не означает неверного суждения, «в
его понятии заложена возможность как
позитивной, так и негативной оценки».
Эта, обычная история фактов
ставит перед толкователем
проблему исходного текста: «Очевидно,
что позволить фактам определять его
действия является для интерпретатора
не каким-то внезапным «смелым»
решением, но действительно «первой,
постоянной и последней задачей». Ведь
речь идёт о том, чтобы придерживаться
фактов вопреки всем искажающим
воздействиям, которые исходят от
самого толкователя и сбивают его с
верного пути. Тот, кто хочет понять
текст, постоянно осуществляет
набрасывание смысла. Как только в
тексте начинает проясняться какой-то
смысл, он делает предварительный
набросок смысла всего текста в целом.
Но этот первый смысл проясняется в свою
очередь лишь потому, что мы с самого
начала читаем текст, ожидая найти в нём
тот или иной определённый смысл.
Понимание того, что содержится в тексте,
и заключается в разработке такого
предварительного наброска, который,
разумеется, подвергается постоянному
пересмотру при дальнейшем углублении в
смысл текста. » Другими словами,
выхватываемый смысл обнаруживает
наличие предзаданного смысла и разницу
текстов - только что понятого и
имеющегося. Эта разница и заставляет
выдвигать новый смысл, находить новую
разницу понятого с данным текстом, и
так до бесконечности.
Такая круговая структура
понимания, в самосознании
истолкователей присутствует давно, от
Шлейермахера до Дильтея. Но этот
герменевтический «круг не следует
низводить до порочного - в нём
скрывается позитивная возможность
исконнейшего познания.» (Хайдеггер). И «онтологически
позитивный смысл. Само его описание как
таковое вполне убедительно для всякого
толкователя, который знает, что делает.»
(опять Гадамер). Самому Гадамеру это
позволяет поставить вопрос о
исторической «традиции»: «В начале
всякой исторической герменевтики
должно стоять поэтому снятие
абстрактной противоположности между
традицией и исторической наукой, между
историей и знанием о ней. Воздействия,
оказываемые живой традицией, с одной
стороны, и историческим исследованием,
с другой, образуют единство; анализ же
этого последнего обнаруживал здесь до
сих пор лишь сплетение взаимодействий.
Правильнее поэтому мыслить
историческое сознание не как нечто
радикально новое - чем оно кажется на
первый взгляд, - но как новый момент в
рамках изначально человеческого
отношения к прошлому.»
Традиция и Культура Гадамера -
попытка развернуть культурно-исторический
миф в бесконечность, а не замкнуть его
на личность исследователя, к чему
стремится показанная на рис.
герменевтическая схема. Она описывает
тот же герменевтичекий круг, но
раскрытый на горизонт истории. На месте
хайдеггеровского пред-понимания, в
ней оказывается предзаданный
исторический миф. Проникая в иную
эпоху, историк снимет вне-исторические
напластования современной ему
культуры и узнает лицо своего,
сегодняшнего мифа.( Ещё не врага.)
Метафизический смысл,
предоставляя человеку жизненный миф,
всегда религиозный, страшит своей
неопределённостью, или наоборот,
схоластической отвлечённостью. И
однажды, в XX веке в философской точке «выбора»,
(см.рис.) уже был сделан поворот вспять,
в сторону текста, с последовавшей затем
аналитической традицией
философствования. Так начинает
строиться философия действительного
факта (со-бытия), по Л. Витгенштейну. И
вторую ветку, горизонт исторически-становящегося,
мы тогда исключаем, этим придавая
действительности культуры неожиданную
фактурность и всеобщий, языковой
статус. Действительность становится
внятным текстом. Философия - критикой. «Порядок
вещей» утверждён. И индивидуальная
историческая Культура не востребована.
Но если жизненный миф остаётся
и в горизонте исторического, круг
культуры способен замкнуться. Тогда
жизненный миф открывает себя в
историческом познании. В герменевтике исторического
события. Тогда это другой случай. В
первом, миф закрывается от исторически
становящейся Культуры в
действительном событии, самим
фактом действительности, ставшим философски-отрефлектированным
художественным целым, текстом, вещью.
Интересно, что всё-таки есть,
дан - единый Текст, являющийся сразу открытием,
Откровением, правда уже не
действительного, а Истинного Мифа. Это
Библейский текст. (Мы говорим не о
текстологической выверенности корпуса
текстов, а о действительности Откровения
Божия в тексте и через текст,
вступая здесь на территорию Бого-Откровенного
текста, и веры как Бого-Человеческого
Слова, обращённого к человеку.) И
открывается этот текст не в первом
смысле действительного события,
а как раз во втором смысле личного
исторического события. Здесь
происходит Встреча, здесь историческое
становится действительностью. А
насыщение духа Божественным чтением
имеет в виду потребность в духовной
пище, уже не познавательную, но
духовную, нужду в Господе как таковую.
Откровение Божие с личной веры
начинается, и ею же оно всецело
проникнуто. При этом сам библейский миф
не есть уже ни исторический миф, ни
современный, что, как показывает
историческое познание Культуры есть одно,
но личная водительная История. В ней
сказывает дух шаги своего
спасительного действия,
преображающего и действительность, и
культуру.
Усиливающаяся
тенденциозность «Заката
Европы» может быть уяснена, с учётом
нашего культурно-исторического цикла.
За этим стоит требование «предшествующих
соседних членов», т.е. философии и истории.
Чтобы сбывалась, а не довлела себе,
изображённая Шпенглером
действительность культуры. Но «достаточной
философской критичности к выводам» и «исторического
понимания взамен морфологического»,
чего всё более требует нынешняя
историография, мы у
Шпенглера
не найдём. Увы, с изменением становящегося
- философской «погоды» и её
критериев, с приходом новой эпохи, ставшее
полностью изменяет свой лик, и в первую
очередь падают историософические
прогнозы, как в прошлое, так и в будущее.
Другой читатель, другое «письмо»
культуры, другой конструктор
исторического на дворе, хотя бы
Хольм
ван Зайчик.
Можно ли «
Ордусь»
ван Зайчика сравнить с анналистическим»
исследованием? «Ордусь» решена сразу в
двух культурных планах - и как текст и,
с другой стороны, как идейно-исторический
проект. Художественная оценка
современного нам исторического мифа
дана негативно, в виде
альтернативного определения
существующего. Писатель, минуя
реальный культурно-исторический смысл,
оформил свой исторический проект с
помощью таких же реальных,
существующих догм. «Мнение группы»,
которую он представляет, становится
его подлинной критической историко-художественной
рефлексией, ею творчески он
отвоёвывает историческую «автономию»,
сразу же её исследуя. Такой
художественный поиск, приблизился бы к
анналистическим штудиям вокруг актуальной
исторической проблемы, если бы не
одно «НО». Художественный замысел ван
Зайчика занят не исследованием
исторической действительности, он
создаёт собственную привлекательно-сходную
утопию, ставя её рядом: сравнивай
читатель, - что лучше ? Ван Зайчик тоже
исследует, отрицательно,
социальные и идеологические связи,
тоже проходит искушение исторически-«иным».
Снять же с него догматический груз
исторической безответственности хоть
как-то философски, исторически,
можно только так, как И. Роднянская, -
одёрнуть, вернув в действительность.
Можно сказать, что Культура становится
не только внешним образом,
исторически, но и внутренним, предметно-исторически.
Критик - рефлексирует над текстом,
потому что в самом тексте рефлексии нет
. История - вместе с эпохой и её
ценностями отчуждает соответствующие
историософские концепции. Ведь текст
не может не получать оценки. А
история перестать становиться. И
художественный текст, и историософия
культуры - эстетические свершения, в
предметно-исторической рефлексии
нуждающиеся по разному. Если текст
всегда остаётся самодостаточным,
историософия с течением времени
отмирает.
Примечания:
1. Х.-Г. Гадамер, с.323
2. Х.-Г. Гадамер, "Истина и метод", М.,1983,
с. 318
|
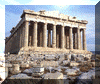

 В гегелевской философии создана
внятная предметно-познавательная
терминология. Автор современного
словаря по терминологии Гегеля, А.Д.
Власов, термин «снятие»
демонстрирует на схемах. Он сравнивает
два типа определённости - предметную и
субъективную.
В гегелевской философии создана
внятная предметно-познавательная
терминология. Автор современного
словаря по терминологии Гегеля, А.Д.
Власов, термин «снятие»
демонстрирует на схемах. Он сравнивает
два типа определённости - предметную и
субъективную.
