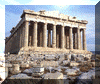М. Кошкин (20/08/02)
Сюжет этой трагической комедии беспрестанно
обновляется и глядится в истории на себя, как в какое-нибудь
психологическое зерцало, признавая жанровую особенность свою,
подновляя обветшавшую мотивацию на "уже не молодом лице".
Так Чацкий - Зарубежная (РПАЦ и РПЦЗ) церковь:
умник, впавший в ревность. Молчалин - Православная (МП):
приспособленец, конечно. Софья - народная русская душа: поле
битвы и сама битва. Наконец, Фамусов - государство: хозяин дома и
отец Софьи. Теперь сделаем паузу на несколько секунд - и читатель, я
надеюсь, прокрутит в уме и оценит всё богатство и полнокровие
соответствий. Рассматривая драматические сцены "
Горя..." в границах этой корреляции, характеры
Грибоедова приближают к нам драматизм реального
конфессионального климата современной церкви. (Но так и не
приблизят.)
Скажут опять: отчего же Софья любит-то этого
Молчалина? Не Чацкого умного? Как так отчего - ну, любви ведь не
прикажешь, любит - значит любит: и не козёл вроде. А не любит - так
не жалуйся, Бог не дал.
Но главное - нельзя любить того, кого нет. Пусть
когда-то дети клялись в любви - что ж с того ? Чацкий болтался у
"Карла" на куличках (не путать с известным интернет-порталом, пока
не замеченном в особых привязанностях к
г. Вольтеру), пока красавица Софья вместе с Молчалиным
подростала и куковала эти годы у папы (не римского, родного) под
крылышком. Нельзя любить пустое место - Молчалин, как и любой
терпеливый ухажёр, это понимает. Методично ухаживает за дочерью
шефа. И Софья в глубине души благодарна бедному, обделённому
талантами писарю, за это.
Но "крылышко" у папеньки Фамусова широкое,
тяжёлое - что под ним с бедною невысказанною девичьей душой
происходило, знает только она сама. Но не скажет, потому что не
умеет как, и горда конечно ещё, фамусовская дочь: Какая там
"любимая" дочь, если сватают за важного идиота в погонах, почти
дауна.
Софья не высказана, бессловесна, и любовь её
подлинная, настоящая - как раз случилась к дураку, ну и что ? - в
этом правда её сердца, не ума. Все эти обстоятельства делают
настоящим героем в пьесе не Чацкого, залетевшую и не разобравшуюся в
ситуации дивную птицу, - а Софью, уже не девочку-ребёнка, а
выросшую, беззащитно-несвободную и глубоко чувствующую женщину.
С другой стороны - что ж так все на Молчалина-то
окрысились? А если парень по-своему влюбился не на шутку, и пускает
слюни как умеет, т. е. тихо, никто и не видит их, потому как
характер у него искренно-дружественный, исполнительный. Неместный
какой-то. Этим бы всё поорать и рубаху у себя, или у кого другого на
груди от чувств растерзать, - а женщина наша, может быть, в тайне,
устала от мужланов-горлопанов с их кобелино-красными глазищами? И не
умник ей надобен, не герой общественный, а вот именно дружественный
спутник по жизни? (Подобие хоть сколько-нибудь удобного
<интерфейса>.) Молчалин честно служит и ухаживает за Софьей, думает
об их будущем счастье, планы осторожные выстраивает, - где уже тут
подлость, в чём она, покажите? Является Чацкий и с парохода, сейчас
требует Софью как свою собственность. Дескать, обещали друг другу
дети во младенчестве купаясь: а самого распирает гордость самая
банальная - как же, она изменила - не ему даже - он сам изменился за
годы странствий, - а идее верности, клятве верности! Не вот эта
новая, приземлённая Софья, а клятвы и обречённость человеческая -
поважнее для Чацкого будут.
А капиталом для себя и Софьи, - что-же Чацкий
назначает? Истину? Свою, перевезённую с собой истину (из-за границы,
догматизм, но догматизм из-за границы души - уже с частичкой
<лже>).
Так в чём же она, "истина-то" эта? Как раз в том
в первую очередь, что Чацкий в воспитавшем его <родном доме> никого
не любит. Да можно ли, скажите на милость, любить-то такого? Как
полюбить-то, нашей Софье, душе любвеобильной, почти вселенской этого
Чацкого, когда он всё ругается и скандалит. Не то с ревности, не то
с гордости, не то с жиру, а не то с какой-то особенной
континентальной глуповатости: Какая-же при такой ненависти возможна
у остальных - "свобода", к которой призывает этот человек,
истерикующий внизу под лестницей?
Разумеется, сюжет грибоедовской пьесы и
реально-историческая церковно-конфессиональной ситуация в России -
изоморфизм довольно грубый, но в сумме в первую очередь мы бы искали
верности художественно уже завершённой пьесе, а не раскрытой
в неизвестность действительности. Здесь нет определённостей
соответствующих конфессий, а есть лишь их взаимоопределённость в
трагическом стечении пьесы и судьбы. Но можно пойти дальше и
вспомнить, что конфессию представляет собой епископ, подобно тому,
как единство церкви собирается во едином Христе Иисусе. Отдельный
Епископ. А Православный Синод любой конфессии, - креатура тайной
ложи обычных человеческих интриг. И тогда отношение к церковной
конфессии как к "персонажу" ( и "пароходу", если вспомнить вслед за
Маяковским Ковчег старого Ноя ), - станет не таким условным и
фантастичным.
Конечно, уподобляя развитие известного сюжета
реальным хитросплетениям в истории церкви, мы легко дорисовываем уже
известные из пьесы характеры, однако при этом в
репрезентируемой исторической действительности невольно, но
оторвёмся от правды факта (госпожа История требует всецелого
внимания только к ней одной, и бывает в этом права), исказим,
скругляя, теряющееся в потёмках лицо исторической действительности.
Так, наш Молчалин-Московская Патриархия, чем далее к концу, тем
больше унижает эту конфессию своей постной характеристикой. История
замученных в советских лагерях и в подвалах Лубянки служителей
церкви и исповедников веры христовой (а расстреливали священников
вообще, а не только катакомбных, на чём как будто должен настаивать
у нас Чацкий, обличая Фамусова-государство), это история подвига,
который, получается, так и не находит адекватного движения фабулы у
Грибоедова. Хотя разумеется не вся церковь занимала позицию
соглашательско-покорственную, (т.н. "сергианскую"), или "Молчалина
при Фамусове":
Хотя - как жили сами Фамусов, Молчалин и Софья до
приезда в их дом господина Чацкого, остаётся только (хотя и легко)
догадываться - действие в пьесе охватывает строгие временные рамки
от приезда до отъезда Чацкого из дома Фамусовых. И кореллят
указанному диапозону в новейшей церковно-конфессиональной истории
очевиден - это девяностые годы, - время, когда РПЦЗ
возвращается в Россию, с 1993 года самостоятельно угнездившись в
городе Суздале. Да и сама конфессиональная трагедия, в отличие от
пьесы Грибоедова, ещё не подошла к развязке. Зарубежная церковь на
сей момент из России так и не убралась, как впрочем, неизвестно,
далеко ли отъехала та карета, в которую вскочил Чацкий после
финального скандала в пьесе Грибоедова. Есть мнения, что не далее
Петербурга.
И Чацкий - не характерологическое определение
РПЦЗ со всеми вытекающими отсюда под-конфессиями навроде РПАЦ, РПЦ и
др. И Фамусов - не совок, хотя местами очень похоже на совка гомо
советикус зиновьевско-застойного покроя. Разве Молчалин только
уже ясен, отыграл свою роль до конца и в наши невзволнованные дни
после разрешённой и уничтожающей критики марксизма в 90-х, теперь
успокоился и заделался стратегом новых яйцеголовых 2000-х, зло
клюющих своего либерального папу.
Да и Софья, - не Россия, хотя её
беды-злосчастья,- все эти пошлость, лень, мещанство, привязанность к
дому, не говоря о чисто половых, женских особенностях души, - точно
не излечить отдельным словом обличения. Ей бы свободным шагом выйти
к солнечному свету, которым освещается Фамусовский дом, не ютиться
бы ей вечерами в каморке с начитавшимся Вольтера Чацким, теребя
завезённые из-за рубежа истины, словно чужие серьги на чужих ушах.
Ведь на улице-то - светло от духовной истории! А тут, в сумерках
отцовской каморы, в пыли бездушного канона, злобными искорками
мечутся зрачки обиженного Чацкого, желающего безличной истиной, как
электричеством, поджечь воспитавший и вырастивший его когда-то дом.
Это и есть нео-схоластика, канон-в-себе, плодящий Чацких, но теперь
уже и с умом Молчалина, то есть вполне в духе господина Фамусова. Ей
бы - Софье, - выскочить отсюда вон, выйти за руку, <сообща> с тем же
Молчалиным ( хорошим в общем парнем, служакой), пробуя, учась и
дерзая.
Да и РПЦЗ, наконец, в отличие от Чацкого, вовсе
не кричит на Софью-загадочную русскую душу, но разве только
подсмеивается иронически, чуть свысока. По всему видно - не на
исторически-ситуативные вещи пытались мы проецировать персонажи
"Горя...", а наоборот, самих героев Грибоедовских вычертить решили
таким вот неожиданным образом, о пьесе только и речь шла, - вот как,
оказывается, бывает