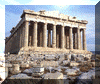М. Кошкин (23/07/02)
В начале ХХ века Ф.Достоевского
старались изучать в контексте влияний,
- ещё не ослеплял, не сковывал молодых
достоевсковедов его литературный
феномен. Так, Н.Вильмонт, известный
советский германовед, в более поздней
своей книге "Шиллер и Достоевский"
(1984) пересказывает "характерный
анекдот" на тему неохватности тех
связей и писательских влияний, с
которыми приходилось сталкиваться
исследователю Достоевского. Анекдот
этот он слышал в бытность ещё студентом
института им.Брюсова от профессора Г.Рачинского,
который в свою очередь передавал его со
слов Н.Страхова. Вот он... Достоевский
приходит к Страхову, садится в кресло и,
побледневши, кричит вне всякой связи с
беседой: " Вот он (кто он, осталось
неизвестным, - Н.В.) ставит мне в вину,
что я эксплуатирую великие идеи
мировых гениев. Чем это плохо? Чем плохо
сочувствие к великому прошлому
человечества? Нет, государи мои.
Настоящий писатель - не корова, которая
пережёвывает травяную жвачку
повседневности, а тигр, пожирающий и
корову, и то, что она проглотила!"
2
( "Тигр" и "трава" между прочим
являются хорошей иллюстрацией
принципа авторской "вненаходимости",
который позже придумает тот же Бахтин в
"Авторе и герое".)
3
Этот анекдот, кстати, как нельзя лучше
показывает , что автор "Карамазовых",
задолго до глубоких критиков своих и
въедливых комментаторов ( не исключено,
впрочем, что и присочинивших его задним
числом ) хорошо себе представлял, что
вещи, которые он делает в русской прозе,
ко всему предыдущему находятся в
отношениях несопоставимых.
Обратимся же к тому "подножному
травяному корму", который успел
нарасти "с прошлой выстрижки", - к
"Замку Отранто" Горация Уолпола, и
покормим свою голодную скотину.
Первое издание романа вышло в 1764
году, без указания имени автора,
который опасался за судьбу своего
произведения и выдал его за "перевод
утраченной рукописи". Нежданный
успех книги позволил писателю во
втором издании 1765 года указать свое имя.
В дальнейшем "Замок Отранто" был
многократно переиздан и породил
множество подражаний, положив начало
новому жанру "готических" романов,
пользовавшихся широкой популярностью
в романтических литературах конца XVIII и
первой половины XIX века.
Кто же такой этот самый
Гораций
Уолпол ? Не тот ли, кого "Терра"
напечатала в 1997 году, чуть ли не в самом
первом выпуске своей тяжеловатой "готической
серии"? Напугать-то этот том "чёрного
мистицизма" только тем и сумел, что
вначале читателю выставили
здоровенный шлем от мстительного
рыцаря-призрака, а к концу - закованную
в латы здоровенную руку, исполняющую
роковое предсказание.
Читая подобные книги, невольно
представляешь себе их читателей. Всю
эту "колесницу" обыденной,
прозаической жизни, и всё такое прочее,
исторгающее сдавленный протест
обывателя и одновременную потребность
в герое и героическом. Особенно легко у
читательниц. Где-нибудь в начале 19 века,
дом, супруг, дети. Уходящая красота,
приходящая сентиментальность ,
распоясавшаяся дворня...В меру
захватывающее чтение, - стилизация под
рыцарский роман, с тремя простыми, но
зато всем заметными видениями (тот же
гигантский шлем), поначалу
показавшимися кошмарами, а разобрались
во всём к концу, - ставшими и вовсе
орудиями воли Божией. В завязке
действия чуть потревожил какой-то
неизвестный рок, а разобрались к концу -
так и не рок вовсе, а орудия возмездия...
Но не этим, не заведомо безнадёжным
состязанием с Эдгаром По, оказывается
интересен средневековый стилизатор
Гораций Уолпол.
В "Идиоте" одна из самых "душераздирающих"
сцен та, где к Настасье Филипповне в
гости приходит Аглая. И ветреная, мягко
говоря, Настасья Филипповна начинает
"делить жениха", - присутствующего
тут же князя Мышкина. Будем держать эту
(и подобные ей) сцены в уме, перечитывая
из готической повести о рыцарских
временах века XII разговор двух юных
княжон, влюблённых в одного и того же
молодого рыцаря.
Короткая преамбула к эпизоду.
Изабелла, дочь живущего по соседству
князя, оспаривающего наследный титул у
князя Манфреда, хозяина замка Отранто,
вынуждена спасаться от чувств
предприимчивого Манфреда, вздумавшего
на ней срочно жениться, чтобы успеть до
своей напророченной близкой кончины
заполучить наследника. В то же время
она не может оправиться от чувств,
нахлынувших после встречи с
прикидывающимся простым крестьянином
молодым благородным человеком.
Читатель может даже "слышать"
мысли Изабеллы, - Уолпол не обременяет
себя кавычками, переключаясь на
внутреннюю речь героини. (Заметим, -
делая автора и героя взаимопроницаемыми,
что станет характерно впоследствии для
новоевропейского романа)...
"Правда, Теодор сам сказал ей, - и то
же сказали его глаза, - что сердце его
занято, но, быть может, Матильда не
отвечает на его страсть: ведь она
всегда казалась совершенно
неспособной чувствовать что-либо
похожее на любовь; все мысли её были
отданы богу: "Зачем я разубеждала её?
- говорила себе самой Изабелла. - Я
наказана за своё великодушие. Но когда
они встречались? И где?""(стр.74)
"...Неужто я унижусь до того, что
буду искать любви человека, который так
грубо. без всякой к тому необходимости.
известил меня о своём безразличии ко
мне? И в какой момент к тому же ? ! Когда
общепринятая учтивость требовала
любезных слов! Я пойду к моей дорогой
Матильде , и она поддержит меня в этой
приличествующей моему полу гордости...Мужчины
коварны...
С такими мыслями Изабелла
направилась к Матильде."( к дочери
хозяина замка, - М.К.), решив открыть
подруге своё сердце.
...Грустный вид Матильды, столь
соответствующий тому состоянию, в
котором находилась и сама Изабелла,
вновь оживил её подозрения, и у неё
сразу пропало желание откровенно
говорить с подругой. При встрече обе
покраснели, будучи слишком неопытными,
чтобы умело скрывать свои чувства.
После обмена несколькими
незначительными вопросами и ответами
Матильда спросила Изабеллу о причине
её побега. Изабелла уже почти забыла о
страсти Манфреда ( хозяина замка и отца
Матильды, - Г.М.) к ней - настолько она
была поглощена страстью, охватившей её
саму, - и решила что Матильда имеет в
виду её последний побег из монастыря...
Мартелли пришёл в монастырь с
известием, что ваша матушка умерла...
- О! - воскликнула, перебивая её,
Матильда. - Бьянка объяснила мне эту
ошибку. Увидев меня в обмороке, она
закричала: "Госпожа скончалась!" -
а Мартелли, пришедший в замок за
обычной милостыней, не разобрав
хорошенько...
- А отчего вы упали в обморок? - спросила
Изабелла, пропустив мимо ушей всё
остальное.
Матильда покраснела и ответила
заикаясь...
- Мой отец...Он осудил преступника...
- Какого преступника ? - с живостью
спросила Изабелла.
- Одного молодого человека:- ответила
Матильда.- Я полагаю... мне кажется, это
был тот самый молодой человек, который...
- Как? Теодор? - воскликнула Изабелла.
- Да, - подтвердила Матильда. - Я никогда
не видала его до этого; не знаю, чем
оскорбил он моего отца...Но коль скоро
он оказал услугу вам (Теодор помог
Изабелле убежать и скрыться от
Манфреда, - М.К.), я рада, что князь
простил его.
- Мне ? - переспросила Изабелла. По
вашему, это значило оказать мне услугу -
ранить моего отца, да так, что он едва не
расстался с жизнью ? Хотя счастье
узнать своего родителя было даровано
мне только вчера, я надеюсь, вы не
считаете меня настолько чуждой
дочерним чувствам, чтобы допустить, что
я могу не возмущаться дерзостью этого
самонадеянного юноши и способна питать
чувство, хоть отдалённо похожее на
любовь, ( слово вырвалось! - М.К.) к
человеку, осмелившемуся поднять руку
на того, кто породил меня на свет. Нет,
Матильда, сердце моё питает отвращение
к нему, и если вы по прежнему верны
дружбе, связывающей нас сызмала:то и вы
будете ненавидеть человека, едва не
сделавшего меня несчастной навсегда"".
Тема ненависти к любимому, которым
невозможно обладать, любви как кары,
тема мученического долга оставлять
счастье другим - будет преумножено
впоследствии в образе Настасье
Филипповны. Правда, у Достоевского, в
лице разгульной и откровенной до
неприличия красавицы, на нас смотрит
более сложный образ, опротестовывающий
долговую систему человеческих
взаимоотношений, загоняющую искренние
человеческие чувства в подполье.
Далее наступает "очередь" уже
Матильде говорить про Теодора,
косвенно тем самым признавая ту же
глубину чувства.
"Матильда, опустив голову, отвечала:
- Я надеюсь, моя дорогая Изабелла не
сомневается в дружбе своей Матильды: до
вчерашнего дня я никогда не видела
этого юноши; я его почти не знаю; но раз
лекари заключили, что жизнь вашего отца
вне опасности, вам не следовало бы
столь немилосердно преследовать своей
злобой этого человека, который - я
убеждена - не знал, что маркиз находится
с вами в родстве. (Отец Матильды приехал
в замок инкогнито.- М.К.)
- Вы что-то уж слишком горячо
вступаетесь за него, - сказала Изабелла,
- особенно. если принять во внимание,
что вы его так мало знаете ! Если я не
ошибаюсь, он относится к вам также
милостиво.
- Что вы имеете в виду ? - спросила
Матильда.
- Ничего, - ответила Изабелла, уже
раскаиваясь, что позволила намекнуть
Матильде на чувства Теодора к ней. - А
теперь скажите мне, - продолжала она,
меняя предмет разговора, - почему
Манфред принял Теодора за приведение?"
Девушки вполне раскрыли свои чувства
друг другу, и надо слегка перевести дух
перед решительным, жертвенным штурмом
счастья.
"- О боже, - сказала Матильда. - разве
вы не заметили удивительного сходства...?
- Я не очень-то рассматриваю портреты, -
отозвалась Изабелла:Ах Матильда! Ваше
сердце в опасности - разрешите же мне по
дружески предостеречь вас: он
признался мне, что влюблён; не может
быть, чтобы он был влюблён в вас, ибо
только вчера он встретился с вами
впервые в жизни - ведь это так, не правда
ли ?
- Конечно, так, - ответила Матильда, - но
какие мои слова позволили моей дорогой
Изабелле заключить, что:- тут она
остановилась ( Матильда следит за тем,
что и как говорить, но чувства
переполняют её, не хочет слушаться этот
каменно-огненный язык! И мы "видим",
как помрачнела она после последних
слов Изабеллы.- М.К.), но затем
продолжала: - Ведь он сперва увидел вас,
и я, зная, сколь мало я привлекательна,
далека от тщеславной мысли, что могла
пленить сердце, уже отданное вам, -
будьте же счастливы, Изабелла, какова
бы ни была судьба Матильды!"
Изабелла видит, как искренно Матильда
готова жертвовать своим счастьем, и в
ней рождается собственная готовность
жертвовать, с тем большим правом, что
любимый выбрал не её:
"- Мой дорогой друг ! - воскликнула
Изабелла, честное сердце которой не
могло противиться доброму порыву. -
Вами, именно вами восхищается Теодор; я
это видела, я убеждена в этом; и мысль о
моём собственном счастье никогда не
заставит меня помешать вашему.
Неподдельная искренность Изабеллы
исторгла слезы из глаз Матильды; и
ревность, вызвавшая на некоторое время
охлаждение между обеими прелестными
девшками, уступила место естественному
для них прямодушию и чистосердечности.
Каждая призналась другой в том
впечатлении, которое произвёл на неё
Теодор; и за этими признаниями
последовала борьба великодуший, в
которой каждая из подруг настойчиво
уступала другой первенство в
притязаниях на того, кто был дорог им
обеим".
Желая ускорить конец затягивающегося
диалога голосов, писатель пробует сам
"заместить" диалог, проговаривая
за героев, но дело в том, что заместить
отдельные голоса в диалоге нельзя!
И резкий переход к формальному,
внешнему взгляду на существо диалога
рождает совсем неуместный здесь
комический эффект. "Волевым
авторским усилием" - скажем мы - всё
таки диалог Уолпол завершает, а не то
чувствительные подруги до утра
жертвовали бы друг другу любимого
человека, а читатель бы раззевался и
оставил романтическое чтение...
"Наконец, гордость и добродетель
напомнили Изабелле, что Теодор едва ли
не в прямых выражениях отдал
предпочтение её сопернице; это
заставило её подавить в себе нежные
чувства и отказаться ради подруги от
предмета своей мечты".
Уолполу "подавить" диалог
удалось, чтобы как-то продолжать
произведение. У Достовского, - он
вырвется на свободу с невероятной
силой, как некий "бессмертный дух".
Уместно коротко напомнить, что под диалогом
понимал М.Бахтин в своей книге
4
о Достоевском. В ходе конструирования
этого термина Бахтин использует идею
как формальную структуру, говорит о идеях
и изображании чужих идей: "Достоевский
умел именно изображать чужую идею,
сохраняя всю её полнозначность как
идеи, но в то же время сохраняя и
дистанцию, не утверждая и не сливая её с
собственной выраженной идеологией.
Идея в его творчестве становится
предметом художественного изображения".
"Какими же условиями определяется
у Достоевского возможность
художественного изображения идеи?
Прежде всего напомним, что образ идеи
неотделим от образа человека - носителя
этой идеи. Не идея сама по себе является
"героиней произведений Достоевского",
как это утверждал Б.М. Энгельгардт, а
человек идеи :это не характер, не
темперамент:с такими овнешнёнными и
завершёнными образами людей образ
полноценной идеи, конечно, не может
сочетаться. Носителем полноценной идеи
может быть только "человек в
человеке" с его свободной
незавершённостью и нерешённостью:человеком
идеи может быть только незавершимый и
неисчерпаемый "человек в человеке".
Второе условие создания образа идеи у
Достоевского - глубокое понимание им
диалогической природы человеческой
мысли. Диалогической природы идеи. Идея
живёт не в изолированном
индивидуальном сознании человека, -...начинает
жить, то есть формироваться,
развиваться, находить и обновлять своё
словесное выражение, порождать новые
идеи, только вступая в существенные
диалогические взаимоотношения с
другими чужими идеями. Человеческая
мысль становится подлинной мыслью, то
есть идеей, только в условиях живого
контакта с чужой мыслью, воплощённой в
чужом голосе. То есть в чужом
выраженном в слове сознании. В точке
этого контакта голосов-сознаний и
рождается и живёт идея.
...Достоевский никогда не создавал
своих образов идей из ничего, никогда
не "выдумывал их", как не
выдумывает художник и изображаемых им
людей, - он умел их услышать или угадать
в наличной действительности...обладал
гениальным даром слышать диалог своей
эпохи или, точнее, слышать свою эпоху
как великий диалог, улавливать в ней не
только отдельные голоса, прежде всего
именно диалогические отношения
между голосами, их диалогическое
взаимодействие. В диалоге своего
времени Достоевский слышал и резонансы
голосов идей прошлого - и ближайшего (30 -
40-х годов) и более далёкого. Он, как мы
сейчас сказали, старался услышать и
голоса-идеи будущего, пытаясь их
угадать, так сказать, по месту,
подготовленному для них в диалоге
настоящего, подобно тому, как можно
угадать будущую, ещё не произнесённую
реплику в уже развернувшемся диалоге.
Таким образом в плоскости
современности сходились и спорили
прошлое, настоящее и будущее
5".
Отсюда видно, что заимствования или
"пожирание коровы вместе с травой,
которую она поглощает", -
принципиально важны Достоевскому для
позиции диалога, как расстановка
разных, чужих ( автору и друг другу)
голосов. Лишь тогда они выявляются в
произведении с большей напряжённостью
и высказываются в свободном
диалогическом поступке, всякий раз не
завершаемом ( монологически ).
Однако современный исследователь Г.Косиков
справедливо замечает, что "разрабатываемую
Бахтиным концепцию романа определяет
собой другое, гораздо более
радикальное понимание слова "диалог".
Подлинно диалогическое слово для него -
это не просто слово, строящееся с
оглядкой на чужие мнения, но слово,
стремящееся к принципиальной
неслиянности со всеми прочими точками
зрения. В основе такого диалога лежит
ощущение каждого из его участников, что
не только чужие, но и его собственная
позиция заведомо неполна и ограничена"
.
6
Исследователь подчёркивает: "романное
сознание, согласно М.М.Бахтину, как раз
и вырастает из этого "радикального
скептицизма" в отношении прямого
слова ( выделено нами - М.К.) и всякой
прямой серьёзности, граничащего с
отрицанием возможности нелживого
прямого слова."
7
. Даже больше того, "стихия романа для
М.М.Бахтина - это именно стихия
бесконечных диалогов, "стремящихся к
пределу взаимного непонимания людей,
говорящих на разных языках".
Подобные "диалогические
противостояния по самой сути
оказываются "незавершимыми" и "безысходными"
8,
и именно в этой безысходности М.М.Бахтин
склонен усматривать самый смысл
романного климата"
9.
Сам Г.Косиков, задаваясь вопросом, "является
ли такая "релятивизация"
культурного сознания и, соответственно,
диалогизация, понятая по М.М.Бахтину,
конститутивным признаком романа
вообще и шире - вообще какого-либо жанра
в литературе нового времени",
склоняется к отрицательному ответу.
"Существуя в обстановке "активного
многоязычия", нередко используя его,
а чаще делая предметом изображения,
показа ( что действительно имеет место
у Рабле, Филдинга, Стерна - и не только у
них), эта литература - как в "романном",
так и в "нероманных" жанрах - (всё-таки
- М.К.)- не превратила диалогическое
разноречие в жанрообразующий принцип."
"Модель Бахтина" - итожит Косиков, -
"построенная на противопоставлении
чистого "монолога" чистому же "диалогу",
описывает вовсе не роман как жанр и
даже не универсальные признаки всей
литературы нового времени, но лишь логические
пределы ( выделено нами - М.К.), к
которым способен устремиться
социальный дискурс в самые различные
эпохи - от древности до современности".
Итак, диалогико-социологическая
модель Бахтина к постижению природы
романа как жанра не ведёт или ведёт не
самым прямым путём. И не случайно, при
всём влиянии исследований Бахтина,
современные теоретики литературы не
спешат порвать с другой
авторитетнейшей концепцией романа, - с гегелевской.
Вослед за Гегелем, определившим "романическую
коллизию как "конфликт между поэзией
сердца и противоречащей ей прозой
житейских отношений"
10,
как противоречие между "бесконечной
внутри себя субъективностью", с
одной стороны, и "рассудочным,
упорядоченным собственными силами
миром"
11
- с другой, большинство современных
исследователей (в том числе Г.Н.Поспелов,
Е.М. Мелетинский, А.Д.Михайлов, П.А.Гринцер
и др.) полагают, что суть романа - в его
"ориентации на изображение "атомизированной",
"эмансипированной", а зачастую и
"самодовлеющей" личности, живущей,
говоря словами Гегеля, "идеалами и
бесконечным законом сердца" и
находящейся в разладе с окружающей
средой с её нормами и требованиями"
В процитированной сцене Уолпола
пробуждается главное, - не герой и не
герои - а та диалогическая сеть
сочувствия, от которой всего один
большой шаг остаётся до того, чтобы
осознать все богатства её перспектив и
строить только на одном диалоге, всё
остальное опустив. Уолполом нащупан
нерв диалога. Пусть диалог его краток и
завершен, а весь сонм чувств,
нахлынувших на Матильду и Изабеллу,
покорен "высшей" авторской воле (апеллирующей
в свою очередь к ещё более Высшей). Но
обнаружена возможность неожиданно
сильных чувств то в одном, то в другом
герое. И делая стилизацию
средневековой истории, Уолполу
приходится в целях убедительности
древней истории не только чётко
обрабатывать характеры, но "настраивать"
их друг на друга. Матильда и Изабелла,
искренно избегая соперничества в любви,
почти торопятся "жертвовать" свои
чувства ради счастья другой, и ради
чувств другой. Узнаваемый перехлёст! Но
выписана сцена романтически, сатира у
Уолпола не уместна, хотя даже попытка
пересказа подобных сцен вызывает у нас
саркастическую усмешку.
Но может быть всё это общие места для
"высокого штиля" ранне-романтической
прозы и Уолпол тут ничего из ряда вон
выходящего не предпринимал ? Не хотел ?
Вот что он пишет сам во "Втором
предисловии" к своему "Замку..."
о замысле книги...
"В этом произведении была сделана
попытка соединить черты
средневекового и европейского романов.
В средневековом романе всё было
фантастичным и неправдоподобным.
Современный же роман всегда имеет
своей целью верное воспроизведение
Природы, и в некоторых случаях оно
действительно было достигнуто"
12.
И ещё о некотором сознательном
методическом усилии...
"...автор вместе с тем хотел
изобразить действующих в его
трагической истории смертных согласно
с законами правдоподобия; иначе говоря,
заставить их думать, говорить и
поступать так, как естественно было бы
для всякого человека, оказавшегося в
необычайных обстоятельствах".
Именно это, - "зависимая
независимость" голоса от
складывающихся в большом диалоге
обстоятельств и видел Бахтин в
качестве основной причины
сверхубедительности текстов
Достоевского.
Словно предчувствуя будущего "живописателя
страстей" Достоевского, дальше
Уолпол пишет:
"...если ему (Уолполу т.е. - М.К..) и
удалось проторить путь, по которому
пойдут другие, блистающие большими
дарованиями сочинители, он должен со
всею скромностью признать - и охотно
делает это здесь, - что понимал, сколь
значительно мог бы быть
усовершенствован его план, будь у него
сильнее воображение и владей он лучше
искусством живописания страстей."
Далее Гораций Уолпол объясняет
другое сознательное намерение в романе,
которое, как всякий искусственный
приём в эпоху всяческой естественности
и Руссо, нуждался в оправдании, -
речевые характеристики у выведенных в
его романе слуг и у их хозяев создают
впечатление двух непересекающихся
миров, господским и холопским, каждый
со своими чувствами, интересами и
понятиями. Видимо, сын премьер-министра
и аристократ Уолпол прибегает к этому
приёму, потому что такова, конечно, сама
"природа" вещей - неужели почему-то
ещё ?
"...несколько слов к тому, что я
говорил в первом предисловии
относительно слуг. Простодушная
непосредственность их поведения,
которая порою может даже насмешить и
поначалу кажется противоречащей
общему мрачному колориту
повествования, не только не
представлялась мне мало уместной здесь,
но как раз была намеренно мною
подчёркнута. Единственным законом для
меня была Природа.
Какими бы глубокими, сильными или
даже мучительными ни были душевные
переживания монархов и героев, они не
вызывают сходных чувств у слуг; по
крайней мере слуги никогда не выражают
их с таким достоинством, как господа, и
потому навязывать им такую манеру
недопустимо. Позволю себе высказать
суждение, что контраст между
возвышенной манерой одних и naivete других
резче оттеняет патетический характер
первых".
Как будто Уолполу различная манера
чувствовать и говорить у слуг и у
героев важна в качестве оттенения
одних и выделения "резкого
патетического характера"
благородных героев. Но тут же он пишет:
"...приняв такую манеру изображения,
я опирался на более высокий авторитет,
нежели моё собственное суждение.
Великий знаток человеческой природы
Шекспир был тем образцом, которому я
подражал. Позвольте задать вопрос: не
утратили ли бы его трагедии о Гамлете и
Юлии Цезаре в значительной степени
свою живость, не лишились бы они многих
удивительных красот, если б из них были
изъяты или облечены в высокопарные
выражения юмор могильщиков, дурачества
Полония и неуклюжие шутки римских
граждан ? Разве красноречие Антония ...не
кажется возвышеннее благодаря
мастерскому приёму автора,
позволившего тут же прорываться в
репликах слушателей простой
человеческой природе? (т.е. элементам
диалога. - М.К.) Эти штрихи напоминают
мне выдумку одного греческого ваятеля,
который, желая дать представление об
истинных размерах Колосса Родосского,
уменьшенного до размеров печатки,
изобразил рядом с ним мальчика
величиной с большой палец самой статуи."
Уолпол словно всё время старается
оправдаться, и как аристократ
естественно апеллирует к Природе.
Пишет о выделении патетических и в тоже
время правдоподобных характеров - с
этой целью ему якобы важна дистанция
между слугами и хозяевами. Проводит
сравнение "истинных размеров
Колосса Родосского" по сравнению с
обычными, как метафору столкновения у
Шекспира высокой героической трагедии
и низкой обывательской забавы...А ведь
это ни что иное, как отчётливое
карнавальное мышление ! Тот самый
карнавал, который систематически
интересовал Бахтина со времени первых
исследований поэтики Достоевского
двадцатых годов, наряду с авантюрным
романом и его героем. "Карнавальная
жизнь -это жизнь, выведенная из своей
обычной колеи, в какой-то мере "жизнь
наизнанку", "мир наоборот"(monde a
l`envers). Законы, запреты и ограничения,
определяющие строй и порядок обычной,
то есть внекарнавальной, жизни, на
время карнавала отменяются...
отменяется прежде всего иерархический
строй и все связанные с ним формы
страха, благоговения, пиетета...В
карнавале вырабатывается в конкретно-чувственной,
переживаемой в полуреальной-полуразыгрываемой
форме новый модус взаимоотношений
человека с человеком,
противопоставляемый всемогущим
социально-иерархическим отношениям
внекарнавальной жизни".
13
Именно они, карнавальные оппозиции,
оставаясь не названными, так
пристально притягивают к себе взгляд
английского романиста Горация Уолпола.
И именно с ними свяжет во многом
решение большого диалогического
романа у Достоевского Бахтин.
Пытаясь приживить, как приживают
черенок ценного растения,
драматургический гений Шекспира, к
современным условиям прозы, и делая это
одним из первых, Уолпол находится под
подавляющим, "гениальным"
впечатлением великого драматурга,
поэтому открытия, которые им
совершаются, он также относит за счёт
великого драматического реалиста
Англии...
"...Я мог бы заявить, что, создав
новый вид романа, я был волен следовать
тем правилам, которые считал
подходящими для его построения; но я бы
испытывал большую гордость, если бы
было признано, что я сумел сотворить
нечто, хоть отдалённо, хоть в малой
степени напоминающее столь
замечательный образец ( т.е.Шекспира -М.К.),
нежели если бы за мной числилась
заслуга изобретения чего-то совсем
нового, а моё сочинение не было бы
отмечено печатью гениальности и
своеобразия."
14
Оставим открытым вопрос - кто же такой
Ф.Достоевский - "революционное"
начало новоевропейской прозы или
последний неровных вздох романтизма ?
Мы не летаем так высоко, чтобы видеть и
давать окончательные расстановки.
Но в средневековом романе "Замок
Отранто" Уолпола, как и в
новоевропейском романе Достоевского
мы нашли полноценный диалог. К чему это
отнести ? Сами же романы остаются
принципиально разноположными и
принадлежат каждый своей
мировоззренческой эпохе .
Г.Косиков пишет о гораздо более
принципиальной разнице двух разных
типов мирочувствия, несущих за собой
все производные , в том числе жанровые
различия: "...в действительности
между "традиционным" и "новым"
западноевропейским романом существует
качественная разница, заключающаяся
вовсе не в степени развитости жанра, а в
том, что глубоко нетождественны сами
смысловые структуры, проблематика
обоих типов романа". Косиков пишет об
"укоренённости средневекового
романа и эпоса в "традиционалистской"
картине мира, которая исходит из
представления о "внутренней
целостности мироздания, о единстве,
полноте и нравственной оправданности
бытия". "Многочисленные внешние и
внутренние "толчки", способные
расшатывать гармонический миропорядок,
создавать препятствия, подлежащие
преодолению, не способны на главное -
подорвать онтологический смысл этого
миропорядка..." С другой стороны, "наступление
эпохи, которую принято называть новым
временем, не в последнюю очередь
связано именно с ценностным
распадением бытия". И если "в
средневековом романе коллизия по
природе своей окказиональна, то в
современном романе она приобретает
коренную и не устранимую
субстанциальность, т.е. закономерный и
неустранимый характер"
15.
Не общий Уолполу и Достоевскому диалог,
а именно эта "разница самих коллизий",
двух романических типов, традиционного
(рыцарского) и новоевропейского,
является определяющей в понимании их
романического различия. Но
кумулятивистская концепция
становления романа из "низших"
форм к "высшим" удивительно живуча
среди исследователей, то и дело
находящих единство романного жанра в
единстве его проблематики, что на
практике подчас оборачивается "приписыванием
смысловой структуры новоевропейского
романа романическим формам
традиционного типа".
Как писатель Гораций Уолпол
практически неизвестен у нас.
Современник чаще всего встретит
упоминание Горация Уолпола в
предисловии к "Рыцарю Айвенго"
сэра Вальтера Скотта, где мэтр и пионер
современного реалистического романа с
любовью отзывается об этом человеке, до
некоторой степени своем
предшественнике. Кстати, тогдашнему
Английскому обществу он был более
всего известен в качестве крупного
коллекционера и сына премьер-министра
16
. Но Достоевский, среди тех писателей,
которые оказали на него сколько-нибудь
значительное влияние, о книге Уолпола
не упоминает. Хорошо исследовано то
творческое влияние, которое оказала на
русского писателя-реалиста
классическая романтическая традиция,
первые реалистические вещи Санд,
Бальзака, Скотта. Известен его
неподдельный интерес к Шиллеровскому
"Дон Карлосу", к его же "Разбойникам".
(см.указ. соч. Н. Вильмонта ). Хотя как
пишет И. Волгин
17
, в своей книге о Достоевском, сравнивая
его писательскую манеру с В.Скоттом, -
"слишком различны их художественные
миры. Между тем наполеоновская новелла
в "Идиоте" - вальтер-скоттовская по
всем статьям". Читал ли великий
писатель роман Горация Уолпола "Замок
Отранто", история умалчивает. Скорее
всего этот широко известный в его время
роман он всё-таки прочитал.
Примечания:
1. Диалог. Карнавал.
Хронотоп. №1,2. 1993, Г.Косиков, "К теории
романа", с.28
К
тексту
2. Н. Вильмонт, "Достоевский
и Шиллер", Сов.пис.,1984 г., с.5 Добавим,
что фраза эта как нельзя лучше
иллюстрирует, сколь высокое место сам
Достоевский уготовлял в прозе Автору,
почти прямо по Бахтину.
К
тексту
3. М.Бахтин, см. в кн. "Эстетика
словесного творчества", 1986 г.
К
тексту
4. "Проблемы творчества
Достоевского",Киев,1994, с.291-295
К
тексту
5. там же, с.296
К
тексту
6. "Диалог. Карнавал.
Хронотоп.", 1993, № 1(2), Г.К.Косиков, "К
теории романа", с.24
К
тексту
7. М.М.Бахтин, "Вопросы
литературы и эстетики", М.,1975, с.212
К
тексту
8.. там же, с.204, с.216
К
тексту
9.Г.Косиков, указ.соч., с.25
К
тексту
10.Гегель, Эстетика, М., 1971, 3
т., с.475
К
тексту
11.Гегель, Эстетика, М., 1969, 2
т., с.289, 303
К
тексту
12.предисловие ко второму
изданию, стр.10
К
тексту
13.Бахтин, "Проблемы
творчества Достоевского", Киев, 1994, с.332
К
тексту
14.Необходимо отметить, что
в эпоху Уолпола, ещё не выходил на
европейскую арену высокий романтизм с
присущим новому мирочувствию
художника индивидуализмом каждого
авторского усилия. Его ,
раннеромантическая эпоха литературы
ещё живёт идеалом образца и конкретных
образцовых шедевров. Оттого и
произведение гениально, если оно
соответствует известному образцу, в д.сл.
Шекспиру.
К
тексту
15.Г.Косиков, указ. Соч., с.45
К
тексту
16.В Сети Г. Уолпол
представлен "Иероглифическими
сказками", опубликованными "Митиным
журналом".
К
тексту
17.И.Волгин, "Родиться в
России", М.,Книга,1991,Достоевский и
современники.Жизнь в документах.,с.145
К
тексту