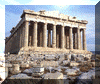Перевод А.Н. Егунова
Платон. С.с.
3-х т.Т3 (1). — М., 1971 г
Примечания
А.А. Тахо-Годи
ГОСУДАРСТВО.6
[Роль философов в
идеальном государстве]
(484)— Насилу-то
выяснилось, Главкон, путем длинного рассуждения, кто действительно
философ, а кто — нет, и что собой представляют те и другие.
— Пожалуй, — отвечал он, — нелегко было сделать
это короче.
— Видимо, нет. К тому же, мне кажется, это
выяснилось бы лучше, если бы надо было говорить только об одном, не
вдаваясь в разбор многого другого при рассмотрении вопроса, в чем
отличие справедливой жизни от несправедливой.
— А что у нас идет после этого?
— Что же иное, кроме того, что следует по
порядку? Раз философы — это люди, способные постичь то, что вечно
тождественно самому себе, а другие этого не могут и застревают на
месте, блуждая среди множества разнообразных вещей, и потому они уже
не философы, то спрашивается, кому из них следует руководить
государством?
— Как же нам ответить на это подобающим образом?
— Кто выкажет способность охранять законы и
обычаи государства, тех и надо назначать стражами.
— Это верно.
— А ясно ли, какому стражу надо поручать любую
охрану — слепому или тому, у кого острое зрение?
— Конечно, ясно.
— А чем лучше слепых те, кто по существу лишен :
знания сущности любой вещи и у кого в душе нет отчетливого ее
образа? Они не способны подобно художникам усматривать высшую истину
и, не теряя ее из виду, постоянно воспроизводить ее со всевозможной
тщательностью, и потому им не дано, когда это требуется,
устанавливать здесь новые законы о красоте, справедливости и благе
или уберечь уже существующие.
— Да, клянусь Зевсом, мало чем отличаются они от
слепых.
— Так кого же мы поставим стражами — их или тех,
кто познал сущность каждой вещи, а вдобавок ничуть не уступает им в
опытности да и ни в какой другой части добродетели?
— Было бы нелепо избрать других, когда эти и
вообще не хуже да еще вдобавок выделяются таким огромным
преимуществом.
485— Не указать ли нам,
каким образом будут они к состоянии обладать и тем и другим?
— Конечно, это следует сделать.
— В начале этого рассуждения мы говорили, что
прежде всего надо разобраться в природе этих людей. Я думаю, если
относительно этого мы будем вполне согласны, то мы согласимся и с
тем, что такие люди могут обладать обоими указанными свойствами и
что руководителями государств надо быть не кому иному, как им.
— Как ты это понимаешь?
[Свойства философской души]
— Относительно природы философов нам надо
согласиться, что их страстно влечет к познанию, приоткрывающему им
вечно сущее и не изменяемое возникновением и уничтожением бытие, о
котором мы говорили.
— Да, с этим надо согласиться.
— И надо сказать, что они стремятся ко всему
бытию в целом, не упуская из виду, насколько это от них зависит, ни
одной его части, ни малой, ни большой, ни менее, ни более ценной, то
есть поступают так, как мы это раньше видели на примере людей
честолюбивых и влюбчивых.
— Ты прав.
— Посмотри вслед за этим, необходимо ли людям, д
которые должны стать такими, как мы говорим, иметь, кроме того, в
своем характере еще и следующее...
— Что именно?
— Правдивость, решительное неприятие какой бы то
ни было лжи, ненависть к ней и любовь к истине.
— Естественно, им необходимо это иметь.
— Не только, друг мой, естественно, но и во всех
отношениях неизбежно любой человек, если он в силу своей природы
охвачен страстным стремлением, ценит псе, что сродни и близко
предмету его любви.
— Верно.
— А найдешь ли ты что-либо более близкое
мудрости, чем истина?
— То есть как?
— Разве может один и тот же человек любить и
мудрость, и ложь?
— Ни в коем случае.
— Значит, тот, кто действительно любознателен,
должен сразу же, с юных лет изо всех сил стремиться к истине?
— Да, это стремление должно быть совершенным.
— Но когда у человека его вожделения резко
клонятся к чему-нибудь одному, мы знаем, что от этого они слабеют в
отношении всего остального — словно поток, отведенный в сторону.
— И что же?
— У кого они устремлены на приобретение знаний и
подобные вещи, это, думаю я, доставляет удовольствие его душе, как
таковой, телесные же удовольствия для него пропадают, если он не
притворно, а подлинно философ.
— Да, это неизбежно.
— Такой человек рассудителен и ничуть не
корыстолюбив — ведь тратиться на то, ради чего люди гонятся за
деньгами, подходило бы кому угодно, только не ему.
— Это так.
— Когда ты хочешь отличить философский
486характер от нефилософского, надо
обращать внимание еще вот на что...
— А именно?
— Как бы не утаились от тебя какие-нибудь
неблагородные его наклонности1:
ведь мелочность—злейший враг души, которой предназначено вечно
стремиться к божественному и человеческому в их целокупности.
— Сущая правда.
[Основное свойство философской души — охват
мыслью целокупного времени и бытия]
— Если ему свойственны возвышенные помыслы и
охват мысленным взором целокупного времени и бытия, думаешь ли ты,
что для такого человека много значит человеческая жизнь?
— Нет, это невозможно.
— Значит, такой человек и смерть не будет считать
чем-то ужасным?
— Менее всего.
— А робкой и неблагородной натуре подлинная
философия, видимо, недоступна.
— По-моему, нет.
— Что же? Человек порядочный, не корыстолюбивый,
а также благородный, не хвастливый, не робкий — может ли он каким-то
образом стать неуживчивым и несправедливым?
— Это невозможно.
— Вот почему, рассматривая, философская ли душа у
какого-нибудь человека или нет, ты сразу, еще в его юные годы
заметишь, справедливая ли она, кроткая ли или трудна для общения и
дика.
— Конечно, замечу.
— И ты не упустишь из виду, думаю я, еще вот
что...
— Что же именно?
— Способен ли он к познанию или не способен.
Разве ты можешь ожидать, что человек со временем полюбит то, над чем
мучится и с чем едва справляется?
— Это вряд ли случится.
— Что же? Если он не может удержать в голове
ничего из того, чему обучался — так он забывчив, может ли он не быть
пустым и в отношении знаний?
— Как же иначе!
— Понапрасну трудясь, не кончит ли он, по-твоему,
тем, что возненавидит и самого себя, и такого рода занятия?
— Конечно, возненавидит.
— Значит, забывчивую душу мы никогда не отнесем к
числу философских и будем искать ту, у которой хорошая память.
— Безусловно.
[Природа философа отличается соразмерностью и
врожденной тонкостью ума]
— Но можем ли мы сказать, что чуждая Музам и
уродливая натура будет иметь влечение к чему-либо иному, кроме
несоразмерности?
— И что же?
— А как, по-твоему, истина сродни несоразмерности
или соразмерности?
— Соразмерности2.
— Значит, кроме всего прочего требуется и
соразмерность, и прирожденная тонкость ума, своеобразие второго
делало бы человека восприимчивым к идее сего сущего.
— Да, конечно.
— Итак, разве, по-твоему, мы не разобрали
свойств, каждое из которых, вытекая одно из другого, необходимо душе
для достаточного и совершенного постижения бытия?
487— Да, они для этого в
высшей степени необходимы.
[Философу присущи четыре основные добродетели
идеального государства]
— А есть ли у тебя какие-нибудь основания укорять
такого рода занятие, которым никто не может как следует заниматься,
если он не будет человеком, памятливым от природы, способным к
познанию, великодушным, тонким, а к тому же другом и сородичем
истины, справедливости, мужества и рассудительности?
— Даже Мом3
и тот не нашел бы, к чему здесь придраться.
— И разве не им одним — людям зрелого возраста,
достигшим совершенства в образовании, — поручил бы ты государство?
Тут вступил в разговор Адимант:
— Против этого-то, Сократ, никто не нашелся бы,
что тебе возразить. Но ведь всякий раз, когда ты рассуждаешь так,
как теперь, твои слушатели испытывают Примерно вот что: из-за
непривычки задавать вопросы или отвечать на них они думают, что
рассуждение при каждом твоем вопросе лишь чуть-чуть уводит их в
сторону, однако, когда эти "чуть-чуть" соберутся вместе, ясно
обнаруживается отклонение и противоречие с первоначальными
утверждениями. Как в шашках сильный игрок в конце концов закрывает
неумелому ход и тот не знает, куда ему податься, так и твои
слушатели под конец оказываются в тупике и им нечего сказать в этой
своего рода игре, где вместо шашек служат слова. А по правде-то дело
ничуть этим не решается. Я говорю, имея в виду наш случай: ведь
сейчас всякий признается, что по каждому заданному тобой вопросу он
не в состоянии тебе противоречить. Стоило бы, однако, взглянуть, как
с этим обстоит на деле: ведь кто устремился к философии не с целью
образования, как это бывает, когда в молодости коснутся ее, а потом
бросают, но, напротив, потратил на нее много времени, те большей
частью становятся очень странными, чтобы не сказать совсем
негодными, и даже лучшие из них под влиянием занятия, которое ты так
расхваливаешь, все же делаются бесполезными для государства.
Выслушав Адиманта, я сказал:
— Так, по-твоему, те, кто так говорит, ошибаются?
— Не знаю, но я с удовольствием услышал бы твое
мнение.
— Ты услышал бы, что, по-моему мнению, они
говорят сущую правду.
— Тогда как же это согласуется с тем, что
государствам до тех пор не избавиться от бед, пока не будут в них
править философы, которых мы только что признали никчемными?
— Твой вопрос требует ответа с помощью
уподобления.
— А ты, видно, к уподоблениям не привык.
— Пусть будет так. Ты втянул меня в трудное
рассуждение да еще и вышучиваешь! Так выслушай же мое уподобление,
чтобы еще больше убедиться, как трудно оно мне дается.
488По отношению к
государству положение самых порядочных людей настолько тяжелое, что
ничего не может быть хуже. Поэтому для уподобления приходится брать
в их защиту и объединять между собой многие черточки наподобие того,
как художники рисуют козлоподобных оленей4
и так далее, смешивая различные черты. Так вот, представь себе
такого человека, оказавшегося кормчим одного или нескольких
кораблей. Кормчий и ростом, и силой превосходит на корабле всех, но
он глуховат, а также близорук и мало смыслит в мореходстве, а среди
моряков идет распря из-за управления кораблем: каждый считает, что
именно он должен править, хотя никогда не учился этому искусству, не
может указать своего учителя и в какое время он обучался. Вдобавок
они заявляют, что учиться этому нечего, и готовы разорвать на части
того, кто скажет, что надо. Они осаждают кормчего просьбами и
всячески добиваются, чтобы он передал им кормило. Иные его совсем не
слушают, кое-кто — отчасти, и тогда те начинают убивать этих и
бросать их за борт. Одолев благородного кормчего с помощью
мандрагоры5,
вина или какого-либо иного средства, они захватывают власть на
корабле, начинают распоряжаться всем, что на нем есть, бражничают,
пируют и, разумеется, направляют ход корабля именно так, как
естественно для подобных людей. Вдобавок они восхваляют и называют
знающим моряком, кормчим, сведущим в кораблевождении того, кто
способен захватить власть силой или же уговорив кормчего, а кто не
таков, того они бранят, считая его никчемным. Они понятия не имеют о
подлинном кормчем, который должен учитывать времена года, небо,
звезды, ветры — все, что причастно его искусству, если он
действительно намерен осуществлять управление кораблем независимо от
того, соответствует ли это чьим-либо желаниям или нет. Они думают,
что невозможно приобрести такое умение, опытность и вместе с тем
власть кормчего.
Итак, раз подобные вещи наблюдаются на кораблях,
не находишь ли ты, что при таком положении дел моряки назовут
высокопарным болтуном6
и никудышником именно того, кто подлинно способен управлять?
489— Конечно, — отвечал
Адимант.
— Я не думаю, чтобы, видя такую картину, ты
нуждался в истолковании того, в чем ее сходство с отношением к
подлинным философам в государствах, — ты ведь понимаешь, о чем я
говорю.
— Вполне.
— Так прежде всего ты растолкуй этот образ тому,
кто удивляется, почему философы не пользуются в государствах
почетом, и постарайся убедить его, что гораздо более удивительно
было бы, если бы их там почитали.
— Я ему растолкую это.
[Еще раз о подлинных правителях государства]
— И скажи ему также: "Ты верно говоришь, что для
большинства бесполезны люди, выдающиеся в философии". Но в
бесполезности этой вели ему винить тех, кто не находит им никакого
применения, а не этих выдающихся людей. Ведь неестественно, чтобы
кормчий просил матросов подчиняться ему или чтобы мудрецы обивали
пороги богачей, — ошибался тот, кто так острил7.
Естественно как раз обратное: будь то богач или бедняк, но, если он
заболел, ему необходимо обратиться к врачам; а всякий, кто нуждается
в подчинении, должен обратиться к тому, кто способен править. Не
дело правителя просить, чтобы подданные ему подчинялись, если только
он действительно на что-нибудь годится. И не совершит ошибки тот,
кто уподобит нынешних государственных деятелей морякам, о которых мы
только что говорили, а людей, которых они считают никчемными и
высокопарными, уподобит подлинным кормчим.
— Это в высшей степени правильно.
— По таким причинам и в таких условиях нелегко
наилучшему занятию быть в чести у занимающихся .. как раз
противоположным. Всего больше и сильнее обязана философия своей
дурной славой тем, кто заявляет, что это их дело — заниматься
подобными вещами. Упомянутый тобой хулитель философии говорил, что
большинство обратившихся к ней — это самые скверные люди, а самые
порядочные здесь бесполезны, и я согласился тогда, что ты говоришь
верно, — разве не так?
— Да, так.
— Но мы уже разобрали причину бесполезности
порядочных людей.
— Полностью разобрали.
— Хочешь, мы разберем после этого причину
неизбежной порочности большинства и по мере сил попытаемся доказать,
что и здесь виновата не философия?
— Конечно, хочу.
— Так давай будем слушать и отвечать, удерживая в
памяти наше исходное положение относительно природных свойств
человека, необходимых, чтобы он был безупречным. Если помнишь, он
прежде всего должен 490руководствоваться
истиной, добиваться ее всевозможными средствами, а пустохвал никоим
образом не может быть причастен к истинной философии.
— Да, мы так утверждали.
— Уже одно только это положение резко
противоречит нынешним представлениям об этих вещах.
— Да, в высшей степени.
— Так разве не будет уместно сказать в защиту
нашего взгляда, что человек, имеющий прирожденную склонность к
знанию, изо всех сил устремляется к подлинному бытию? Он не
останавливается на множестве вещей, лишь кажущихся существующими, но
непрестанно идет вперед, и страсть его не утихает до тех пор, пока
он не коснется самого существа каждой вещи тем в своей душе, чему
подобает касаться таких вещей, а подобает это родственному им
началу. Сблизившись посредством него и соединившись с подлинным
бытием, породив ум и истину, он будет и познавать, и поистине жить,
и питаться, и лишь таким образом избавится от бремени, но раньше —
никак.
— Да, такая защита была бы крайне уместна.
— Что же? Будет ли уделом такого человека любовь
к лжи или же, как раз наоборот, ненависть к ней?
— Ненависть.
— Раз его ведет истина, я думаю, мы никогда не
скажем, что ее сопровождает хоровод зол.
— Как можно!
— Но скажем, что ее сопровождает здоровый и
справедливый нрав, а вслед за ним — рассудительность.
— Верно.
— А остальной хоровод свойств человека,
обладающего философским складом? Впрочем, к чему сызнова его строить
— ты ведь помнишь, что в него должны входить мужество, великодушие,
понятливость, память. Ты возразил мне, что всякий должен согласиться
с тем, что мы говорим, оставив, однако, в стороне рассуждения и
вместо того наблюдая самих тех, о ком идет речь;
всякий сказал бы также, что среди них он видит и
бесполезных, и во многих случаях даже совсем негодных людей.
Рассматривая причину этой их дурной славы, мы и столкнулись сейчас с
вопросом, почему многие из них никчемны, и ради этого мы снова
принялись разбирать природные свойства подлинных философов и были
вынуждены определять их.
— Да, это так.
е— Да, надо
присмотреться к порче такой натуры, к тому, как она гибнет у многих,
а у кого хоть что-нибудь от нее остается, тех считают пусть не
дурными, но все же бесполезными. Затем надо рассмотреть свойства
тех, кто им подражает и берется за их дело, — 491у
таких натур много бывает промахов, так как они недостойны заниматься
философией и это им не под силу; из-за них-то и закрепилась за
философией и всеми философами повсюду та слава, о которой ты
говоришь.
— А о какой порче ты упомянул?
— Попытаюсь разобрать это, если смогу. Я думаю,
всякий согласится с нами, что такой человек, обладающий всем, что мы
от него требуем для того, чтобы он стал совершенным философом, редко
рождается среди людей — только как исключение. Или ты так не
считаешь?
— Я вполне с тобой согласен.
— Таких людей мало, но зато посмотри, как много
существует для них чрезвычайно пагубного.
— А что именно?
— Всякий до крайности удивится, если услышит, что
каждое свойство, которое мы одобряли в подобных людях, оно-то как
раз и губит душу, им обладающую, и отвлекает ее от философии: я имею
в виду мужество, рассудительность, вообще все, что мы разбирали.
— Да, это странно слышать!
с— А кроме того, губят и
отвлекают ее и все так называемые блага: красота, богатство,
телесная сила, влиятельное родство в государстве и все, что с этим
связано. Вот тебе в общих чертах то, что я имею в виду.
— Понимаю, но с удовольствием ознакомился бы
подробнее с твоим взглядом.
— Охвати его правильно в целом, и тебе станет
вполне ясно и вовсе не странно все ранее сказанное об этом предмете.
— Как ты посоветуешь это сделать?
— Относительно всякого семени или зародыша, будь
то растения или животного, мы знаем, что, лишенные подобающего им
питания, климата и места, они тем больше теряют в своих свойствах,
чем мощнее они сами: ведь плохое более противоположно хорошему, чем
нехорошему.
— Конечно.
— Есть ведь разумное основание в том, что при
чуждом ей питании самая совершенная природа становится хуже, чем
посредственная.
— Да, есть.
е— Так не скажем ли мы,
Адимант, точно так же, что и самые одаренные души при плохом
воспитании становятся особенно плохими? Или ты думаешь, что великие
преступления и крайняя испорченность бывают следствием
посредственности, а не того, что пылкая натура испорчена
воспитанием? Слабые же натуры никогда не будут причиной ни великих
благ, ни больших зол,
— Я согласен с тобой.
— Если установленная нами природа философа
получит надлежащую выучку, 492 то,
развиваясь, она непременно достигнет всяческой добродетели; но если
она досеяна и высажена на неподобающей почве, то выйдет как раз
наоборот, разве что придет ей на помощь кто-нибудь из богов. Или и
ты считаешь подобно большинству, будто лишь немногие молодые люди
испорчены софистами, будто портят их некие частные лица и только о
них и стоит говорить? Между тем, кто так говорит, они-то и являются
величайшими софистами, в совершенстве умеющими перевоспитывать и
переделывать людей на свой лад — юношей и стариков, мужчин и женщин.
— Когда же они это делают?
— Тогда, когда густой толпой заседают в народных
Собраниях, либо в судах, или в театрах, в военных лагерях, наконец,
на каких-нибудь иных общих сходках и с превеликим шумом частью
отвергают, частью одобряют чьи-либо выступления или действия,
переходя с мepy и в том и в другом; они
кричат, рукоплещут, и вдобавок их брань или похвала гулким эхом
отражаются от скал в том месте, где это происходит, так что шум
становится вдвое сильнее. В таких условиях что, как говорится,
будет, по-твоему, у юноши на сердце? И какое воспитание, полученное
частным образом, Может перед этим устоять? Разве оно не будет смыто
этой бранью и похвалой и унесено их потоком? Разве ре признает юноша
хорошим или постыдным то же самое, что они, или не станет заниматься
все тем же? Наконец, разве он не станет таким же сам?
— Это совершенно неизбежно, Сократ.
— А между тем мы еще не упоминали о величайшей
необходимости.
— Какой же?
— О той, которую с помощью дела прибавляют к
слову эти самые воспитатели и софисты, когда их речь не убеждает.
Или ты не знаешь, что ослушника они карают лишением гражданских
прав, денежными штрафами, а то и смертной казнью?
— Да, они весьма охотно прибегают к таким мерам.
е— Какой же, по-твоему,
иной софист или направленные против них доводы частных лиц их
одолеют?
— Думаю, такого софиста нет.
— Да, нет. Даже и делать такую попытку было бы
крайне безрассудно. Ведь не бывает, не бывало, да, по-моему, и не
будет иного, противоположного отношения к добродетели у тех, кто
получил воспитание от большинства, то есть человеческое; однако для
божественного воспитания, мой друг, мы, согласно пословице, делаем
исключение8.
Надо твердо знать: если что 493уцелело при
таком устройстве государств и все идет как следует, то своей
сохранностью, скажешь ты, это все обязано божественному уделу9
— и ты будешь прав.
— Да, мне кажется, что дело обстоит не иначе.
— Вдобавок убедись еще вот в чем...
— В чем же?
[Софисты потакают мнениям толпы]
— Каждое из этих частных лиц, взимающих плату
(большинство называет их софистами и считает, будто их искусство
направлено против него), преподает не что иное, как те же самые
взгляды большинства и мнения, выражаемые им на собраниях, и называет
это мудростью, все равно как если бы кто-нибудь, ухаживая за
огромным и сильным зверем, изучил бы его нрав и желания, знал бы, с
какой стороны к нему подойти, каким образом можно его трогать, в
какую пору и отчего он свирепеет или успокаивается, при каких
обстоятельствах привык издавать те или иные звуки и какие
посторонние звуки укрощают его либо приводят в ярость: изучив все
это путем обхождения с ним и длительного навыка, он называет это
мудростью и, как бы составив руководство, обращается к преподаванию,
ничего, по правде сказать, не зная относительно взглядов
[большинства] и его вожделений — что в них прекрасно или постыдно,
схорошо или дурно, справедливо или
несправедливо, но обозначая перечисленное соответственно мнениям
этого огромного зверя: что тому приятно, он называет благом, что
тому тягостно — злом и не имеет никакого иного понятия об этом, но
называет справедливым и прекрасным то, что необходимо; а насколько
но существу различна природа необходимого и благого, он не видит и
не способен показать это другому чело-иску. И раз он таков, скажи,
ради Зевса, не странным ли показался бы он тебе воспитателем?
— Мне — да.
— А чем же отличается от него тот, кто мудростью
считает уже и то, если он подметил, что не нравится, а что нравится
собранию большинства самых различных людей — будь то в живописи,
музыке или даже в политике? Если, общаясь с ними, он выставляет
напоказ свои поэтические или иные произведения либо свое служение
государству, он делает это большинство своим властелином сильнее,
чем это вызывается необходимостью, и тогда в силу так называемой "Диомедовой
нужды"10
он выполняет то, что одобряет большинство. А действительно ли это
хорошо или прекрасно — разве слышал ты когда-либо, чтобы кто-то из
них отдавал себе в этом отчет и это не вызывало бы смеха?
е— Думаю, что и никогда
не услышу.
— Так вот, учитывая все это, припомни то, о чем
говорили мы раньше: возможно ли, чтобы толпа допускала
494и признавала существование красоты самой
по себе, а не многих красивых вещей или самой сущности каждой вещи,
а не множества отдельных вещей?
— Это совсем невозможно.
[Антагонизм философа и толпы]
— Следовательно, толпе не присуще быть философом.
— Нет, не присуще.
— И значит, те, кто занимается философией,
неизбежно будут вызывать ее порицание.
— Да, неизбежно.
— И порицание со стороны тех частных лиц,
которые, общаясь с чернью, стремятся ей угодить.
— Исходя из этого, в чем ты усматриваешь спасение
для философской натуры, чтобы ей не бросать своего занятия и достичь
своей цели? Решай на основании того, о чем мы говорили раньше: мы
признали, что такой натуре свойственны хорошие способности,
памятливость, мужество и возвышенный образ мыслей.
— Да.
— Такой человек с малых лет будет первым среди
всех, особенно если и телом он уродился таким, как душой.
— Почему бы ему и не быть!
— А его близкие и сограждане захотят найти ему
применение в своих делах, когда он подрастет.
— Как же иначе?
— Значит, они будут припадать к нему с просьбами
и оказывать ему почет, чтобы подольститься и заранее заручиться его
могущественным покровительством.
— Да, это часто бывает.
— Что же будет делать, по-твоему, подобный
человек среди таких людей, особенно если он будет принадлежать к
числу граждан великого государства и будет в нем богатым и знатным,
а к тому же статным и привлекательным на вид? Не появятся ли у него
необычные притязания? Не станет ли он считать себя способным
распоряжаться делами и эллинов, и варваров и не занесется ли он
высоко, преисполнившись высокомерия и пустой самонадеянности вопреки
разуму?
— Все это более чем возможно.
— Если кто-нибудь, несмотря на такое его
состояние, спокойно подойдет к нему и скажет ему правду, то есть,
что ума у него нет, а не мешало бы его иметь, но что поумнеть можно,
если только подчинить себя этой цели — приобретению ума, легко ему
будет, по-твоему, выслушать это среди стольких бед?
— Вовсе не легко.
— Если же кто-нибудь, хотя бы один человек,
благодаря своей хорошей природе и близости к таким учениям склонится
на сторону философии, чувствуя к ней влечение, как, должны мы
ожидать, поступят в этом случае ее противники, понимая, что для них
потеряна возможность использовать его как союзника? Разве не
прибегнут они к любым действиям и к любым доводам, чтобы переубедить
его и чтобы его наставник не имел успеха? Разве не будут они строить
козни и частным образом, и в общественном порядке, привлекая его к
судебной ответственности?
495— Это неизбежно.
— Так может ли статься, чтобы такой человек
занимался философией?
— Не очень-то!
— Видишь, мы неплохо тогда сказали, что даже сами
особенности философской натуры, когда она оказывается в плохих
условиях, бывают каким-то образом виной тому, что человек бросает
этим заниматься; причиной бывают и так называемые блага — богатство
и всякого рода обеспеченность.
— Это было правильно сказано.
— Вот в чем гибель и вот как велика, друг мой,
порча лучших натур, предназначенных для благороднейшего занятия! И
вообще-то подобные натуры редкость, как мы утверждаем. К их числу
относятся и те люди, что причиняют величайшее зло государствам и
частным лицам, и те, что творят добро, если их влечет к нему; мелкая
же натура никогда не совершит ничего великого ни для частных лиц, ни
для государства.
— Сущая правда.
— Когда, таким образом, от философии отпадают те
люди, которым всего больше надлежит ею заниматься, она остается
одинокой и незавершенной, а сами они ведут жизнь и не подобающую, и
не истинную. К философии, раз она осиротела и лишилась тех, кто ей
сродни, приступают уже другие лица, вовсе ее нe достойные. Они
позорят ее и навлекают на нее упрек в том, за что как раз и порицают
ее, по твоим словам, ее хулители, говоря, будто с ней имеют дело
люди либо ничего не стоящие, либо же в большинстве своем
заслуживающие всего самого худшего.
— Действительно, так об этом и говорят.
— И правильно говорят. Ведь иные людишки чуть
увидят, что область эта опустела, а между тем полна громких имен и
показной пышности, тотчас же, словно те, кто из темницы убегает в
святилище, с радостью делают скачок прочь от ремесла к философии —
особенно те, что половчее в своем ничтожном дельце. Хотя философия
находится в таком положении, однако сравнительно с любым другим
мастерством она все же гораздо больше в чести, что и привлекает к
ней многих людей, несовершенных по своей природе: тело у них
покалечено ремеслом и производством, да и души их сломлены и
изнурены грубым трудом; ведь это неизбежно.
— Да, совсем неизбежно.
— А посмотреть, так чем они отличаются от
разбогатевшего кузнеца, лысого и приземистого, который недавно вышел
из тюрьмы, помылся в бане, приобрел себе новый плащ и нарядился — ну
прямо жених? Да он и собирается жениться на дочери своего господина,
воспользовавшись его бедностью и беспомощностью.
— Ничем почти не отличаются.
496— Что же может
родиться от таких людей? Не будет ли их потомство незаконнорожденным
и негодным?
— Это неизбежно.
— Что же? Когда люди, недостойные воспитания,
приближаясь к нему, ведут себя недостойно, какие, можем мы ожидать,
родятся тогда намерения и мнения? Поистине они не заслуживают
называться мудростью, поскольку в них нет ни подлинности, ни мысли.
— Совершенно верно.
— Остается совсем малое число людей, Адимант,
достойным образом общающихся с философией11:
это либо те, кто, подвергшись изгнанию, сохранил как человек,
получивший хорошее воспитание, благородство своей натуры — а раз уж
не будет гибельных влияний, он, естественно, и не бросит философии,
— либо это человек великой души, родившийся в маленьком государстве:
делами своего государства он презрительно пренебрежет. Обратится к
философии, пожалуй, еще и небольшое число представителей других
искусств: обладая хорошими природными задатками, они справедливо
пренебрегут своим прежним занятием. Может удержать и такая узда, как
у нашего приятеля Феага12:
у него решительно все клонилось к тому, чтобы отпасть от философии,
но присущая ему болезненность удерживает его от общественных дел. О
моем собственном случае — божественном знамении13
— не стоит и упоминать: такого, пожалуй, еще ни с кем раньше не
бывало.
Все вошедшие в число этих немногих, отведав
философии, узнали, какое это сладостное и блаженное
достояние; они довольно видели безумие
большинства, а также и то, что в государственных делах никто не
совершает, можно сказать, ничего здравого и что там не найти себе
союзника, чтобы с ним вместе прийти на помощь правому делу и
уцелеть, — напротив, если человек, словно очутившись среди зверей,
не пожелает сообща с ними творить несправедливость, ему не под силу
будет управиться одному со всеми дикими своими противниками, и,
прежде чем он успеет принести пользу государству или своим друзьям,
он погибнет без пользы и для себя, и для других. Учтя все это, он
сохраняет спокойствие и делает свое дело, словно укрывшись за стеной
в непогоду. Видя, что все остальные преисполнились беззакония, он
доволен, если проживет здешнюю жизнь чистым от неправды и нечестивых
дел, а при исходе жизни отойдет радостно и кротко, уповая на лучшее.
497— Значит, он отходит,
достигнув немалого!
— Однако все же не до конца достигнув того, что
он мог, так как государственный строй был для него неподходящим. При
подходящем строе он и сам бы вырос и, сохранив все свое достояние,
сберег бы также и общественное.
Так вот насчет философии — из-за чего у нее такая
дурная слава (а между тем это несправедливо),—по-моему, уже сказано
достаточно, если у тебя нет других замечаний.
— Я ничего не могу к этому добавить. Но какое из
существующих теперь государственных устройств ты считаешь для нее
подобающим?
[Извращенное государственное устройство
губительно действует на философа]
— Нет такого. На это-то я и сетую, что ни одно из
нынешних государственных устройств не достойно натуры философа.
Такая натура при них извращается и меняет свой облик. Подобно тому
как иноземные семена, пересаженные на чуждую им почву, теряют свою
силу и приобретают свойство местных растений, так и подобные натуры
в настоящее время не осуществляют своих возможностей, получая чуждый
им склад. Но стоит такой натуре очутиться в государстве, превосходно
устроенном, как и она сама, — вот тогда-то и обнаружится, что она и
в самом деле божественна, всё же прочее — другие натуры и другие
занятия — не более как человеческое.
Очевидно, после этого ты спросишь, что это за
государственный строй.
— Ты не угадал. Я собирался спросить не так, а
вот как: другой ли это строй или же тот самый, который мы разбирали,
основывая наше государство?
— В общем это он. Ведь и тогда было сказано, что
в государстве всегда должна существовать некая часть,
придерживающаяся такого же взгляда, как и ты, когда как законодатель
устанавливал законы.
— Да, это было сказано.
— Но не было достаточно разъяснено, так как вы,
заранее охваченные страхом, решили, что рассмотрение этого вопроса
будет длительным и трудным. Впрочем, и все остальное тоже совсем не
легко разобрать.
— Что именно?
[Способы избежать неверного применения
философии в государстве]
— Каким образом применять философию так, чтобы
государство от этого не пострадало? Ведь все великое неустойчиво, а
прекрасное, но пословице, действительно трудно14.
— Однако наше доказательство лишь тогда будет
доведено до конца, если и это станет очевидным.
— Препятствием будет служить не отсутствие
желания, а разве что недостаток сил. Ты сейчас сам увидишь мое
усердие: посмотри, как настойчиво и отважно я решаюсь сказать, что
государство должно приниматься за это дело совсем противоположным
образом, чем теперь.
— А как?
498— В настоящее время,
если кто и касается философии, так это подростки, едва вышедшие из
детского возраста: прежде чем обзавестись домом и заняться делом,
они, едва приступив к труднейшей части философии, бросают ее, в то
же время изображая из себя знатоков; труднейшим же я нахожу в ней
то, что касается доказательств. Впоследствии, если по совету других
— тех, кто занимается философией, — они пожелают стать их
слушателями, то считают это великой заслугой, хоть и полагают, что
заниматься этим надо лишь между прочим. А к старости они, за
немногими исключениями, угасают скорее, чем Гераклитово солнце15,
поскольку никогда уже не загораются снова.
— А как же надо заниматься философией?
— Совершенно иначе. Подростки и мальчики должны
получать воспитание и изучать философию соответственно их юному
возрасту, непрестанно заботясь своем теле, пока они растут и мужают;
философии это будет в помощь. С возрастом, когда начнет
совершенствоваться их душа, они должны напряженно ее упражнять.
Когда же их сила иссякнет и не по плечу будут им гражданские и
воинские обязанности, тогда свконец
наступит для них приволье: ничем иным они не будут заниматься, разве
что между прочим, коль скоро они намерены вести блаженную жизнь, а
скопившись, добавить к прожитой жизни подобающий потусторонний удел.
— Правду сказать, Сократ, ты, по-моему, говоришь
увлечением, однако, думаю я, большинство слушателей начиная с
Фрасимаха с еще большим увлечением стали бы тебе возражать: ведь ты
их ни в чем не убедил.
— Не ссорь меня с Фрасимахом; мы только что стали
друзьями да и раньше не были врагами. Я не вставлю неиспробованным
ни одного средства, пока мне не удастся убедить и его, и остальных
или пока я не принесу им хоть какой-нибудь пользы в той их жизни,
когда, вновь родившись, они опять столкнутся с подобными вопросами.
— Ты загадываешь совсем ненадолго!
— Это ничтожный срок т" сравнении с вечностью. А
что большинство людей не верит словам другого, это не диво. Ведь они
никогда не видали того, о чем мы сейчас говорим, — для них все это
какие-то фразы, умышленно подогнанные друг к другу, а не
[положения], вытекающие, как сейчас, само собой одно из другого. Да
и человека, который был бы равен или подобен самой добродетели,
который в пределах возможного достиг бы совершенства в деле и слове
и владычествовал бы в государстве подобного рода, они никогда не
видали — ни одного, ни многих таких людей. Или, думаешь ты,
случалось им видеть?
— Ни в коем случае.
499— Да и не довелось
им, мой милый, стать довольными слушателями прекрасных и благородных
рассуждений, усердно и всеми средствами доискивающихся истины ради
познания и ничего общего не имеющих с чванными препирательствами
ради славы или из-за соперничества в судах и при личном общении.
— Да, таких рассуждений они не слыхали.
— Вот почему, хотя мы и тогда предвидели это и
этого опасались, все же, влекомые истиной, мы говорили, что ни
государство, ни его строй, так же как и отдельный человек, не станут
никогда совершенными, пока не случится какая-нибудь необходимость,
которая заставит этих немногочисленных философов — людей вовсе не
дурных, хотя их и называют теперь бесполезными, — принять на себя
заботу о государстве, желают ли они того или нет (и государству
придется их слушаться); или пока по какому-то божественному наитию
не будут охвачены подлинной страстью к подлинной философии сыновья
нынешних властителей и царей либо они сами. Считать, что
какая-нибудь одна из этих двух возможностей пли они обе — дело
неосуществимое, я лично не нахожу никаких оснований. Иначе нас
справедливо высмеяли бы за то, что мы занимаемся пустыми
пожеланиями. Разве не так?
— Да, так.
[Осуществимость идеального государства]
— Если для людей выдающихся в философии возникала
когда-либо в беспредельности минувшего или существует теперь
необходимость взять на себя заботу о государстве — в какой-либо
варварской местности, далеко, вне нашего кругозора — или если такая
необходимость возникнет впоследствии, мы готовы упорно отстаивать
взгляд, что такой государственный строй был, есть и будет, коль
скоро именно эта Муза оказывается владычицей государства.
Осуществление такого строя вполне возможно, и о невозможном мы не
говорим. А что это трудно, признаем и мы.
— И я с этим согласен.
— Но ты скажешь, что большинство с этим все-таки
несогласно.
— Пожалуй.
— Милый мой, не стоит так уж винить большинство.
Оно переменит свое мнение, если ты без резкостей, мягко опровергнешь
дурную славу любви к познанию, покажешь, каковы, по-твоему,
философы, и определишь их природу и занятие, чтобы большинство по
думало, будто ты говоришь о тех, кого оно само 500считает
философами. Если оно так взглянет на них, право же, ты скажешь, что
у него составилось уже другое мнение и оно по-другому о них
отзывается. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет относиться с
раздражением к тому, кто не раздражителен, и с завистью к тому, кто
не завистлив? Предвосхищаю твой E ответ и скажу, что, по-моему,
столь тяжелый нрав ; встречается у очень немногих людей, большинству
же не свойствен.
— Успокойся, я разделяю твой взгляд.
— А согласен ли ты и с тем, что виновниками
нерасположения большинства к философии бывают те посторонние лица,
которые шумной ватагой вторгаются куда не следует, поносят людей,
проявляя к ним враждебность, и все время позволяют себе личные
выпады — иначе говоря, ведут себя совершенно неподобающим для
философов образом?
— Полностью согласен.
— Между тем, Адимант, тому, кто действительно
направил свою мысль на бытие, уже недосуг смотреть вниз, на
человеческую суету и, борясь с людьми, преисполняться
недоброжелательства и зависти. Видя и созерцая нечто стройное и
вечно тождественное, не творящее несправедливости и от нее не
страдающее, полное порядка и смысла, он этому подражает и как можно
более ему уподобляется. Или ты думаешь, будто есть какое-то средство
не подражать тому, чем восхищаешься при общении?
— Это невозможно.
— Общаясь с божественным и упорядоченным, философ
также становится упорядоченным и божественным, насколько это в
человеческих силах. Оклеветать же можно все на свете.
— И даже очень.
— Так вот, если у философа возникнет
необходимость позаботиться о том, чтобы внести в частный и
общественный быт людей то, что он там усматривает, и не
ограничиваться собственным совершенствованием, думаешь ли ты, что из
него выйдет плохой мастер по части рассудительности, справедливости
и всей вообще добродетели, полезной народу?
— Совсем неплохой.
— Но если люди поймут, что мы говорим о нем
правду, станут ли они негодовать на философов и выражать недоверие
нашему утверждению, что никогда, ни в коем случае не будет
процветать государство, если его не начертят художники но
божественному образцу?
501— Раз поймут, то уже
не будут негодовать. Но о каком способе начертания ты говоришь?
— Взяв, словно доску, государство и нравы людей,
они сперва очистили бы их, что совсем нелегко. Но, как ты знаешь,
они с самого начала отличались бы от других тем, что не пожелали бы
трогать ни частных лиц, ни государства и не стали бы вводить в
государстве законы, пока не получили бы его чистым или сами не
сделали бы его таким.
— Это верно.
— После этого, правда ведь, они сделают набросок
государственного устройства?
— Как же иначе?
— Затем, думаю я, разрабатывая этот набросок, они
пристально будут вглядываться в две вещи: в то, что но природе
справедливо, прекрасно, рассудительно и так далее, и в то, каково же
все это в людях. Смешивая и сочетая навыки людей, они создадут
прообраз человека, определяемый тем, что уже Гомер назвал боговидным
и богоподобным свойством, присущим людям16.
— Это верно.
— И я думаю, кое-что они будут стирать, кое-что
рисовать снова, пока не сделают человеческие нравы, насколько это
осуществимо, угодными богу.
— Это была бы прекраснейшая картина!
— А тех, кто, по твоим словам, сомкнутым строем
шел против нас, разве мы не убедили бы, что именно таков начертатель
государственных устройств, которого мы им хвалили раньше, а они
негодовали, что мы ему вверили государство? Если бы они послушались
нас сейчас, неужели они не смягчились бы?
— Конечно, если они в здравом уме.
— Какие же у них могут быть возражения? Разве
только что философы не страстные поклонники истины и бытия?
— Это было бы нелепо.
— Или что философская натура, которую мы
разобрали, не родственна наивысшему благу?
— И это звучало бы так же.
— Далее. Если уж не эта, то какая другая натура,
коль скоро ей найдется надлежащее применение, будет полностью
добродетельной и философской? Может быть, мы скорее в состоянии это
утверждать о тех натурах, что мы отвергли?
— Конечно, нет.
— Или их все еще приводят в ярость наши слова,
что ни для государства, ни для граждан не будет конца несчастьям,
пока владыкой государства не станет племя философов или пока не
осуществится на деле тот государственный строй, который мы словесно
обрисовали?
— Быть может, это их злит, хотя теперь уже
меньше.
— Если ты не против, давай скажем, что они не
только меньше злятся, но совсем уже стали кроткими и дали себя
убедить, пусть только из стыдливости.
502— Я, конечно, не
против.
— Итак, будем считать, что в этом мы их убедили.
Но кто же станет оспаривать следующее: ведь может лучиться, что
среди потомков царей и властителей встретятся философские натуры...
— С этим не будет спорить никто.
— А раз такие натуры встречаются, так ли уж
неизбежно предстоит им подвергнуться порче? Что трудно им себя
охранить, это и мы признаем. Но разве бесспорно, что во все времена
ни одному из всех них никогда не удалось уберечься?
— Вовсе нет.
— Между тем достаточно появиться одному такому
лицу, имеющему в своем подчинении государство, и человек этот
совершит все то, чему теперь не верят.
— Его одного было бы достаточно.
— Ведь если правитель будет устанавливать законы
и обычаи, которые мы разбирали, не исключено, что граждане охотно
станут их выполнять.
— Это вовсе не исключено.
— А разве примкнуть к нашим взглядам будет для
других чем-то диковинным и невозможным?
— Я лично этого не думаю.
— Между тем мы раньше в достаточной мере, думаю
я, разобрали, что предложенное нами — это наилучшее, будь оно только
осуществимо.
— Да, мы разобрали это достаточно.
— А теперь у нас так выходит насчет
законодательства: всего лучше, если бы осуществилось то, о чем мы
говорим, и хотя это трудно, однако не невозможно.
— Выходит так.
— После того как мы насилу покончили с этим
вопросом, надо сказать и об остальном. Каким образом и посредством
каких наук и занятий получаются люди, на которых зиждется все
государственное устройство? В каком возрасте каждый из них
приступает к каждому из этих дел?
— Да, об этом надо сказать.
— Я ничего не выгадал, стараясь раньше опустить
тягостный вопрос, касающийся обзаведения женами, деторождения и
назначения на правительственные должности, — я знал тогда, что
полная правда будет неприятна и тяжела; но все равно вышло, что
необходимость рассмотрения этого вопроса сейчас нисколько не меньше.
Впрочем, что касается жен и детей, это уже выполнено, а вот насчет
правителей приходится приниматься за разбор как бы сызнова.
503Если ты помнишь, мы
говорили, что им должна быть присуща любовь к своему государству,
испытанная и в радости, и в горе, и должно быть заметно, что от
этого своего правила они не откажутся ни при каких трудностях,
опасностях или иных превратностях. Кто здесь окажется слаб, того
придется отвергнуть, но тот, кто чистым выйдет из этого испытания,
словно золото из огня, того надо поставить правителем, оказывать ему
особые почести и присуждать награды как при жизни, так и после
кончины. Вот что примерно было сказано, когда наша беседа мимоходом
коснулась этого, но тотчас же спряталась из страха возбудить то, что
сейчас перед нами возникло.
— Сущая правда; я ведь помню.
— Тогда я, мой друг, не решался сказать то, что
теперь решился. Осмелимся же сказать и то, что в качестве самых
тщательных стражей следует ставить философов.
— Пусть это будет сказано.
[Еще о природе философа и четырех
добродетелях]
— Прими во внимание, что у тебя их, естественно,
будет немного: ведь природа их должна быть такой, как мы разобрали,
между тем все свойства подобных натур редко встречаются вместе:
большей частью они бывают разбросаны.
— Что ты имеешь в виду?
— Способность к познанию, память, остроумие,
проницательность и все, что с этим связано, обычно, как ты знаешь,
не встречаются все зараз, а люди по-юношески задорные и с блестящим
умом не склонны всегда жить размеренно и спокойно; напротив, из-за
своей живости они мечутся во все стороны, и все постоянное их
покидает.
— Ты прав.
— Если же люди отличаются постоянством нрава и
переменчивость им чужда, на их верность можно скорее положиться, и
на войне они с трудом поддаются страху, но эти же их свойства
сказываются при усвоении знаний: они неподатливы, невосприимчивы и
словно находятся в оцепенении, а когда надо над чем-нибудь таким
потрудиться, их одолевают сон и зевота.
— Это бывает.
— Между тем мы говорили, что человек должен в
полной мере обладать и теми, и этими свойствами, иначе не стоит
давать ему столь тщательное воспитание, удостаивать его почестей и
вручать ему власть.
— Это верно.
— Но не находишь ли ты, что указанное сочетание
редко встречается?
— Да, редко!
— Значит, надо проверять человека в трудностях,
опасностях и радостях, о чем мы и говорили раньше. Кроме того,
добавим сейчас то, что мы тогда пропустили: надо упражнять его во
многих науках, наблюдая, способен ли он воспринять самые высокие
познания или он их убоится, подобно тому как робеют люди в случае
усилий иного рода.
504— Это следует
наблюдать. Но какие познания ты называешь высокими?
— Вероятно, ты помнишь, что, различив три вида
души17,
мы сделали вывод относительно справедливости, рассудительности,
мужества и мудрости, определив, что такое каждое из них.
— Если бы я не помнил, я не был бы вправе слушать
дальнейшее.
— А помнишь ли ты то, что было сказано перед
этим?
— Что именно?
— Мы как-то говорили, что для наилучшего
рассмотрения этих свойств есть другой, более долгий путь, и, если
пойти по нему, они станут вполне ясными, но уже и из ранее
сказанного можно сделать нужные заключения. Последнее вы признали
достаточным, и, таким образом, получились выводы, на мой взгляд, не
вполне точные. А удовлетворяют ли они вас, пожалуйста, скажите сами.
— Но мне-то, — отвечал Адимант, — они показались
в меру доказательными, да и остальным тоже.
— Но, дорогой мой, мера в таких вещах, если она
хоть сколько-нибудь отстает от действительности, уже не будет в
надлежащей степени доказательной. Ведь несовершенное не может
служить мерой чего бы то ни было. Впрочем, некоторым иной раз уже и
это кажется достаточным, а дальнейшие поиски излишними.
— Такое впечатление создается очень у многих
из-за их равнодушия.
— Но всего менее должен этому поддаваться страж
государства и законов.
— Конечно.
— Значит, мой друг, ему надо идти более долгим
путем и не меньше усилий приложить к приобретению знаний, чем к
гимнастическим упражнениям, иначе, как мы только что говорили, он
никогда не достигнет совершенства в самом важном и наиболее ему
нужном знании.
— Да разве не это самое важное и есть что-то
важнее справедливости и всего того, что мы разбирали?
— Да, есть нечто более важное, и это следует
рассматривать не только в общих чертах, как мы делаем теперь:
напротив, там нельзя ничего упустить, все должно быть завершенным.
Разве не смешно, что в вещах незначительных прилагают старания,
чтобы все вышло как можно точнее и чище, а в самом важном деле будто
бы и вовсе не требуется величайшая тщательность!
— Конечно, твое замечание ценно. Но что такое это
важнейшее знание и о чем оно, как ты считаешь? Или, ты думаешь, тебя
отпустят, не задав этого вопроса?
— На это я не слишком рассчитываю — пожалуйста,
задавай вопросы и ты. Во всяком случае ты уже нередко об этом
слышал, а сейчас ты либо не соображаешь, 505либо
умышленно хочешь снова мне наделать хлопот своим вмешательством;
последнее, думаю я, вероятнее. Ты часто уже слышал: идея блага18
— вот , это самое важное знание; ею обусловлена пригодность и
полезность справедливости и всего остального. Ты и сейчас почти
наверное знал, что я именно так скажу и вдобавок, что идею эту мы
недостаточно знаем. А коль скоро не знаем, то без нее, даже если у
нас будет наибольшее количество сведений обо всем остальном, уверяю
тебя, ничто не послужит нам на пользу: это вроде того как приобрести
себе какую-нибудь вещь, не думая о благе, которое она принесет. Или,
ты думаешь, главное дело в том, чтобы приобрести побольше имущества,
не думая о том, хорошее ли оно? Может быть, надо понимать все что
угодно, а о прекрасном и благом вовсе не помышлять?
— Клянусь Зевсом, я этого не думаю.
— Но ведь ты знаешь, что, по мнению большинства,
благо состоит в удовольствии, а для людей более тонких — в
понимании?19
— Конечно.
— И знаешь, мой Друг, те, кто держится этого
взгляда, не в состоянии указать, что представляет собой это
понимание, но в конце концов бывают вынуждены сказать, будто оно
есть понимание того, что хорошо.
— Это просто смешно.
— Еще бы не смешно, если, упрекая нас в неведении
блага, она затем говорят с нами как с ведающими это, называя благом
понимание того, что хорошо: как будто нам станет понятно, что они
говорят, если они будут часто произносить слово "благо".
— Сущая правда.
— Что же? Те, кто определяет благо как
удовольствие, меньше ли исполнены заблуждений? Разве им не
приходится признать, что бывают дурные удовольствия?
— И даже очень дурные.
— Выходит, думаю я, что они признают, будто благо
и зло — одно и то же20.
Разве нет?
— Именно так.
— Следовательно, ясно, что во всем этом очень
много спорного.
— Конечно.
— Далее. Разве не ясно и это: в качестве
справедливого и прекрасного многие выбрали бы то, что кажется им
таким, хотя бы оно и не было им на самом деле, и соответственно
действовали бы, приобретали и выражали бы свои мнения; что же
касается блага, здесь никто не довольствуется обладанием мнимого, но
все ищут подлинного блага, а мнимым всякий пренебрегает.
— Безусловно.
— К благу стремится любая душа и ради него все
совершает; она предчувствует, что есть нечто такое, но ей трудно и
не хватает сил понять, в чем же оно состоит. Она не может на это
уверенно опереться, как на все остальное, вот почему она терпит
неудачу и в том остальном, что могло бы быть ей на пользу.
506Неужели мы скажем, что и те лучшие в
государстве люди, которым мы готовы все вверить, тоже должны быть в
таком помрачении относительно этого важного предмета?
— Ни в коем случае.
— Я думаю, что справедливость и красота, если
неизвестно, в каком отношении они суть благо, не найдут для себя
достойного стража в лице человека, которому это неведомо. Да, я
предвижу, что без этого никто и не может их познать.
— Ты верно предвидишь.
— Между тем государственный строй будет у нас в
совершенном порядке только в том случае, если его будет блюсти
страж, в этом сведущий.
— Это необходимо. Но ты-то сам, Сократ, считаешь
благо знанием или удовольствием? Или чем-то иным, третьим?
— Ну что ты за человек! Мне хорошо известно, да и
ты прежде явно показывал, что тебя не могут удовлетворить обычные
мнения об этих вещах.
— Мне кажется, Сократ, неправильным, когда чужие
взгляды умеют излагать, а свои собственные — нет, несмотря на долгие
занятия в этой области.
— Как так? По-твоему, человек вправе говорить о
том, чего он не знает, выдавая себя за знающего?
— Вовсе не за знающего, но пусть он изложит, что
он думает, именно как свои соображения.
— Как? Разве ты не замечал, что все мнения, не
основанные на знании21,
никуда не годятся? Даже лучшие из них и те слепы. Если у людей
бывают какие-то верные мнения, не основанные на понимании, то чем
они, по-твоему, отличаются от слепых, которые правильно идут по
дороге?
— Ничем.
— Ты предпочитаешь наблюдать безобразное,
туманное и неясное, хотя есть возможность узнать от других, что и
ясно и красиво?
— Ради Зевса, Сократ, — воскликнул Главкон, — не
отстраняйся, словно ты уже закончил рассуждение. С нас будет
достаточно, если ты разберешь вопрос о благе так, как ты
рассматривал справедливость, рассудительность и все остальное.
— Мне же, дорогой мой, этого тем более будет
достаточно. Как бы мне только не сплоховать, а то своим нелепым
усердием я вызову смех. Но, мои милые, что такое благо само по себе,
это мы пока оставим в стороне, потому что, мне кажется, оно выше тех
моих мнений, которых можно было достигнуть при нынешнем нашем
размахе. А вот о том, что рождается от блага и чрезвычайно на него
походит, я охотно поговорил бы, если вам угодно, а если нет, тогда
оставим и это.
— Пожалуйста, говори, а о его родителе22
ты нам расскажешь в дальнейшем.
— Хотелось бы мне быть в состоянии отдать вам
507целиком этот мой долг, а не только
проценты, как теперь. Но взыщите пока хоть проценты, то есть то, что
рождается от самого блага. Однако берегитесь, как бы я нечаянно не
провел вас, представив неверный счет.
— Мы остережемся по мере сия. Но ты продолжай.
— Все же только заручившись вашим согласием и
напомнив вам о том, что мы с вами уже говорили , раньше да и вообще
нередко упоминали.
— А именно?
— Мы считаем, что есть много красивых вещей,
много благ и так далее, и мы разграничиваем их с помощью
определения.
— Да, мы так считаем.
— А также, что есть прекрасное само по себе,
благо само по себе и так далее в отношении всех вещей, хотя мы и
признаем, что их много. А что такое каждая вещь, мы уже обозначаем
соответственно единой идее, одной для каждой вещи.
— Да, это так.
— И мы говорим, что те вещи можно видеть, но не
мыслить, идеи же, напротив, можно мыслить, но не видеть.
— Конечно.
— Посредством чего в нас видим мы то, что мы
видим?
— Посредством зрения.
— И не правда ли, посредством слуха мы слышим все
то, что можно слышать, а посредством остальных чувств мы ощущаем
все, что поддается ощущению?
— Ну и что же?
— Обращал ли ты внимание, до какой степени
драгоценна эта способность видеть и восприниматься зрением,
созданная в наших ощущениях демиургом?
— Нет, не особенно.
— А ты взгляни на это вот как: чтобы слуху
слышать, а звуку звучать, требуется ли еще нечто третье, д так, что
когда оно отсутствует, ничто не слышится и не звучит?
— Ничего третьего тут не нужно.
— Я думаю, что и для многих остальных ощущений —
но не для всех — не требуется ничего подобного. Или ты можешь
что-нибудь возразить?
— Нет, не могу.
— А разве ты не замечал, что это требуется для
зрения и для всего того, что можно видеть?
— Что ты говоришь?
— Какими бы зоркими и восприимчивыми к цвету ни
были у человека глаза, ты ведь знаешь, он ничего не увидит и не
различит, если попытается пользоваться своим зрением без наличия
чего-то третьего, специально для этого псвоим зрением без наличия
чего-то третьего, специально для этого предназначенного.
— Что же это, по-твоему, такое?
— То, что ты называешь светом.
— Ты прав.
— Значит, немаловажным началом связуются друг с
другом зрительное ощущение и возможность зрительно восприниматься;
508их связь ценнее всякой другой, потому
что свет драгоценен.
— Еще бы ему не быть!
— Кого же из небесных богов можешь ты признать
владычествующим над ним и чей это свет позволяет нашему зрению всего
лучше видеть, а предметам— восприниматься зрением?
— Того же бога, что и ты, и все остальные. Ведь
ясно, что ты спрашиваешь о Солнце.
— А не находится ли зрение по своей природе вот в
каком отношении к этому богу...
— В каком?
— Зрение ни само по себе, ни в том, в чем оно,
возникает, — мы называем это глазом — не есть Солнце.
— Конечно, нет.
— Однако из орудий наших ощущений оно самое
солнцеобразное.
— Да, самое.
— И та способность, которой обладает зрение,
уделена ему Солнцем, как некое истечение.
— Конечно.
— Значит, и Солнце не есть зрение. Хотя оно —
причина зрения, но само зрение его видит.
— Да, это так.
— Вот и считай, что я утверждаю это и о том, что
порождается благом, — ведь благо произвело его подобным самому себе:
чем будет благо в умопостигаемой области по отношению к уму и
умопостигаемому, тем в области зримого будет Солнце по отношению к
зрению и зрительно постигаемым вещам.
— Как это? Разбери мне подробнее.
— Ты знаешь, когда напрягаются, чтобы разглядеть
предметы, озаренные сумеречным сиянием ночи, а не те, цвет которых
предстает в свете дня, зрение притупляется, и человека можно принять
чуть ли не за слепого, как будто его глаза не в порядке.
— Действительно, это так.
— Между тем те же самые глаза отчетливо видят
предметы, освещенные Солнцем: это показывает, что зрение в порядке.
— И что же?
— Считай, что так бывает и с душой: всякий раз,
когда она устремляется туда, где сияют истина и бытие, она
воспринимает их и познает, а это показывает ее разумность. Когда же
она уклоняется в область смешения с мраком, возникновения и
уничтожения, она тупеет, становится подверженной мнениям, меняет их
так и этак, и кажется, что она лишилась ума.
— Похоже на это.
— Так вот, то, что придает познаваемым вещам
истинность, а человека наделяет способностью познавать, это ты и
считай идеей блага — причиной знания и познаваемости истины. Как ни
прекрасно и то и другое — познание и истина, но если идею блага ты
будешь считать чем-то еще более прекрасным, ты будешь прав. Как
правильно было считать свет и зрение 509солнцеобразными,
но признать их Солнцем было бы неправильно, так и здесь: правильно
считать познание и истину имеющими образ блага, но признать
которое-либо из них самим благом было бы неправильно: благо по его
свойствам надо ценить еще больше.
— Каким же ты считаешь его несказанно прекрасным,
если по твоим словам, от него зависят и познание, и истина, само же
оно превосходит их своей красотой! Но конечно, ты понимаешь под этим
не удовольствие?
— Не кощунствуй! Лучше вот как рассматривай его
образ...
— Как?
— Солнце дает всему, что мы видим, не только
возможность быть видимым, но и рождение, рост, а также питание, хотя
само оно не есть становление.
— Как же иначе?
— Считай, что и познаваемые вещи могут
познаваться лишь благодаря благу; оно же дает им и бытие, и
существование, хотя само благо не есть существование, оно — за
пределами существования, превышая его достоинством и силой.
Тут Главкон очень забавно воскликнул:
— Аполлон! Как удивительно высоко мы взобрались!
— Ты сам виноват, — сказал я, — ты заставляешь
меня излагать мое мнение о благе. — И ты ни в коем случае не бросай
этого; не говоря уж о другом, разбери снова это сходство с Солнцем —
не пропустил ли ты чего.
— Ну, там у меня многое пропущено.
— Не оставляй в стороне даже мелочей!
— Думаю, их слишком много; впрочем, насколько это
сейчас возможно, постараюсь ничего не пропустить.
— Непременно постарайся.
[Мир умопостигаемый и мир видимый]
— Так вот, считай, что есть двое владык, как мы и
говорили: один —надо всеми родами и областями умопостигаемого,
другой, напротив, надо всем зримым — не хочу называть это небом,
чтобы тебе не казалось, будто я как-то мудрю со словами. Усвоил ты
эти два вида, зримый и умопостигаемый?
— Усвоил.
— Для сравнения возьми линию, разделенную на два
неравных отрезка. Каждый такой отрезок, то есть область зримого и
область умопостигаемого, раздели опять таким же путем, причем
область зримого ты разделишь по признаку большей или меньшей
отчетливости. Тогда один из получившихся там отрезков будет
содержать образы. Я называю так прежде всего 510тени,
затем отражения в воде и в плотных, гладких и глянцевитых предметах
— одним словом, все подобное этому.
— Понимаю.
— В другой раздел, сходный с этим, ты поместишь
находящиеся вокруг нас живые существа, все виды растений, а также
все то, что изготовляется.
— Так я это и размещу.
— И разве не согласишься ты признать такое
разделение в отношении подлинности и неподлинности: как то, что мы
мним, относится к тому, что мы действительно знаем, так подобное
относится к уподобляемому.
— Я с этим вполне согласен.
— Рассмотри в свою очередь и разделение области
умопостигаемого — по какому признаку надо будет ее делить.
— По какому же?
[Беспредпосылочное начало. Разделы
умопостигаемого и видимого.]
— Один раздел умопостигаемого душа вынуждена
искать на основании предпосылок, пользуясь образами из получившихся
у нас тогда отрезков и устремляясь поэтому не к началу, а к
завершению. Между тем другой раздел душа отыскивает, восходя от
предпосылки к началу, такой предпосылки не имеющему. Без образов,
какие были в первом случае, но при помощи самих идей пролагает она
себе путь23.
— То, что ты говоришь, я недостаточно понял.
— Тебе легче будет понять, если сперва я скажу
вот что: ся думаю, ты знаешь, что те, кто
занимается геометрией, счетом и тому подобным, предполагают в любом
своем исследовании, будто им известно, что такое чет и нечет,
фигуры, три вида углов и прочее в том же роде. Это они принимают за
исходные положения и не считают нужным отдавать в них отчет ни себе,
ни другим, словно это всякому и без того ясно. Исходя из этих
положений, они разбирают уже все остальное и последовательно доводят
до конца то, что было предметом их рассмотрения.
— Это-то я очень хорошо знаю.
— Но ведь когда они вдобавок пользуются чертежами
и делают отсюда выводы, их мысль обращена но на чертеж, а на те
фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают только
для четырехугольника самого по себе и его диагонали, а не для той
диагонали, которую они начертили. Так и во всем остальном. То же
самое относится к произведениям ваяния и живописи: от них может
падать тень, и возможны их отражения в воде, но сами они служат лишь
образным выражением того, что можно видеть не иначе как мысленным
взором.
511— Ты прав.
— Вот об этом виде умопостигаемого я тогда и
говорил: душа в своем стремлении к нему бывает вынуждена
пользоваться предпосылками и потому не восходит к его началу, так
как она не в состоянии выйти за пределы предполагаемого и пользуется
лишь образными подобиями, выраженными в низших вещах, особенно в
тех, в которых она находит и почитает более отчетливое их выражение.
— Я понимаю: ты говоришь о том, что изучают при
помощи геометрии и родственных ей приемов.
— Пойми также, что вторым разделом
умопостигаемого я называю то, чего наш разум достигает с помощью
диалектической способности. Свои предположения он не выдает за нечто
изначальное, напротив, они для него только предположения, как
таковые, то есть некие подступы и устремления к началу всего,
которое уже не предположительно. Достигнув его и придерживаясь
всего, с чем оно связано, он приходит затем к заключению, вовсе не
пользуясь ничем чувственным, но лишь самими идеями в их взаимном
отношении, и его выводы относятся только к ним.
— Я понимаю, хотя и не в достаточной степени:
мне кажется, ты говоришь о сложных вещах. Однако
ты хочешь установить, что бытие и все умопостигаемое при помощи
диалектики можно созерцать яснее, чем то, что рассматривается с
помощью только так называемых наук, которые исходят из
предположений. Правда, и такие исследователи бывают вынуждены
созерцать область умопостигаемого при помощи рассудка, а не
посредством ощущений, но поскольку они рассматривают ее на основании
своих предположений, не восходя к первоначалу, то, по-твоему, они и
не могут постигнуть ее умом, хотя она вполне умопостигаема, если
постичь ее первоначало. Рассудком же ты называешь, по-моему, ту
способность, которая встречается у занимающихся геометрией и им
подобных. Однако это еще не ум, так как рассудок24
занимает промежуточное положение между мнением и умом.
— Ты выказал полнейшее понимание. С указаннными
четырьмя отрезками соотнеси мне те четыре состояния, что возникают в
душе: на высшей ступени — разум, на второй — рассудок, третье место
удели вере, а последнее — уподоблению25,
и расположи их соответственно, считая, что насколько то или иное
состояние причастно истине, столько же в нем и достоверности.
— Понимаю. Я согласен и расположу их так, как ты
говоришь.
Примечания Тахо-Годи
1
В греч. подлиннике стоит слово aneleytheria: "несвободный".
"недостойный свободного человека" образ действия; схолиаст объясняет
это слово как "низменное отношение к деньгам", противопоставляя его
щедрости и широте души (megaloprepeia). Этим последним
термином Платон обозначает великодушие или выдающуюся
натуру (см. ниже, 487а), т. e. нравственную щедрость человека, а не
только щедрость в отношении денег. См. также т. 1, прим. 8 к диалогу
"Менон".
2 О значении
соразмерности и меры у Платона см. выше, прим. 41 к
диалогу "Филеб".
3 Mом — бог злоязычия
и насмешки, сын Ночи (см. Гесиод. Теогония, 214). У Лукиана
Мом критикует все, что создали Афина, Посейдон и Гефест ("Гермотим",
20).
4 Козлоподобный олень,
или "трагелаф", — фантастическое составное существо. У Аристофана
("Лягушки", 937) трагелаф наряду с "конепетухом" символизирует
высокопарность и сложность эсхиловской трагедии.
5 Мандрагора —
растение с корнем в виде человеческой фигурки, известное своим
снотворным действием.
6 Этот эпитет применили к
Сократу его обвинители. Ср. т. 1, "Апология Сократа", 18b-с и 19b-с,
а также прим. 8 и 11.
7 Аристотель приписал поэту
Симониду Кеосскому слова, чти "мудрецы постоянно торчат у дверей
богатых" (см. Rhet. II Id, 1391а 8-12). Однако схолиаст к данному
месту приводит разговор Сократа с неким Евбулом, которому Сократ
остроумно возразил, что мудрецы у дверей богатых знают, что им нужно
из того, что раздают богачи, а эти последние не знают, что они
получат от мудрецов. Близкий к этому рассказ о беседе философа
киренаика Аристиппа и тирана Дионисия Сиракузского находим у Диогена
Лаэртского (II 8, 69).
8 Отзвук этой поговорки мы
встречаем в "Пире" (176с): "Сократ не в счет".
9 Божественный удел,
по Платону, даруется людям независимо от воспитания. В "Меноне",
например, говорится о том, что государственные люди не научаются
добродетели (94b-e), но мудры "от бога" (99b-d).
10 Схолиаст к данному месту
Платона поясняет эту пословицу рассказом о Диомеде и Одиссее,
похитивших палладий Афины в Трое.
11 О разнице между истинной
философией и софистикой см. т. 1, прим. 32 к диалогу "Горгий".
Вопросу определения софиста посвящен Платоном диалог "Софист" (см.
т. 2).
12 Феаг упоминается в
"Апологии Сократа" (33е) среди учеников Сократа. См. т. 1, прим. 38
к "Апологии Сократа". Этому лицу посвящен у Платона диалог "Феаг".
13 О божественном
знамении, или о гении Сократа, см. т. 1, прим. 29а и 33 к
"Апологии Сократа".
14 Об этой пословице см.
выше, прим. 15 к кн. IV.
15 У Гераклита "не только
ежедневно новое солнце, но солнце постоянно, непрерывно обновляется"
(В6 D).
16 Гомеровское обычное
наименование героев: "божественный", "подобный богу", "равный богу"
идет от мифологического представления о причастности героев богам,
от которых они некогда все произошли; кроме того, здесь наличествует
поэтическое понимание "божественного" как наилучшего, прекрасного.
17 См. кн. IV 439с-d.
18 Об идее блага,
воплощенной в творце мира — демиурге — см. "Тимей", 29а. Ср.
"Государство", VI 507с, 510а - 511d. Единое "Парменида" есть также
не что иное, как высшее благо. Учение Платона о благе было
настолько известно в античности, что вошло даже в поговорку. Диоген
Лаэртский приводит слова из комедии Амфиса: "А что касается блага,
какое оно... то я знаю о нем не больше, чем я знаю о благе Платона"
(фр. 6 Kock).
19 О разных пониманиях
блага см. в "Филебе" (11b), где для одних оно — "радость,
наслаждение, удовольствие", а для других — "разумение, мышление,
память и то, что сродно с ними: правильное мнение и истинные
суждения". По Аристотелю, "люди образуют понятия блага и блаженства
сообразно с жизнью, которую они ведут", причем "толпа" видит благо в
наслаждении (Eth. Nic. I 3, 1095e 14-16).
20 В "Филебе" Сократ говорит
Протарху, что нельзя верить учению, которое все противоположности
приводит к единству (13е-14а); он имеет здесь в виду обычную
софистическую игру словами.
21 О знании и
мнении см. т. 1, прим. 44 к диалогу "Менон". Весь диалог
"Теэтет" посвящен критике сенсуализма как источника ложных мнений.
22 Родитель: здесь—то
высшее благо, которое в "Тимее" именуется демиургом
(ср. выше, прим. 18).
23 Все предшествующие
рассуждения, начиная с 508а, подводят собеседников Сократа к мысли
об идее высшего блага, которое ни от чего не зависит, само себя
определяет, находясь за пределами бытия (epeceina tês ousias—509b),
и является не чем иным, как тем беспредпосылочным началом
(archê anypothetos — 510b), которое символически можно выразить в
образе Солнца (509а), всё одаряющего, дающего человеку возможность
видения мира, но вместе с тем ослепительно недоступного.
Идея Солнца как высшего блага была
чрезвычайно симптоматична для кануна эллинизма, каковым явилось
время написания "Государства". Поздняя античность видела в Солнце
объединяющую и организующую весь мир силу в противовес архаической
матери-Земле и раннеклассическим четырем элементам (вода, воздух,
земля, огонь) натурфилософов.
Такую первостепенную роль Солнце получило
не сразу. В традиционной генеалогии Гесиода Гея и Уран рождают,
среди других своих детей, титанов Гипериона и Фейю (Theog. 132—135),
которые, "сочетавшись в любви", в свою очередь рождают
Солпце-Гелиоса, Селену-Луну и Эос-Зарю (371—374). У Гомера Гелиос
имеет свой остров Тринакию, где пасутся тучные стада быков и овец
(Od. XII 380 ел.).
Мифологический Гелиос у досократиков
отождествлялся с Зевсом (Ферекид А 9), Гефестом, Аполлоном и огнем (Феаген,
2), прямо именуясь у орфиков Гелиосом-Огнем (1 В 21). Он—"владыка" у
Эмпедокла (31 В 47) и "отец растений" у Анаксагора (59 А 117), хотя
тот же Анаксагор видит в Солнце только "огненную массу" (А 1), а
Гераклит говорит: "Солнце не преступит положенной ему меры" (22В94).
Скромное место Солнца, хотя оно и "бог" (5 В, la), наглядно
выступает у пифагорейцев, в космологической системе которых в центре
Вселенной находится мировой огонь — Гестия, а Солнце занимает место
рядом с Луной и Землей (Филолай А 16).
Объединение Солнца-Гелиоса с
Фебом-Аполлоном, великим организующим и оформляющим началом,
способствовало представлению о Солнце как универсальной мировой
силе. Это объединение, начавшееся еще в доклассическую эпоху,
превратилось в прямое отождествление в литературе и философии эпохи
эллинизма. У стоика Корнута (XXII) Аполлон прежде всего—это Солнце и
огонь. Дионисий Галикарнасский тоже прямо отождествляет Аполлона и
Солнце (Opusc. II 256, 14—16). Аполлону-Солнцу посвящен гимн
Месомеда, вольноотпущенника императора Адриана (С. Jan.
Musici scriptores graeci. Lips., 1895, 460—468). Дион Xpисостом (II
в. н. э.) говорит, что "некоторые считают одним и тем же Аполлона,
Гелиоса и Диониса" (I р. 347, 27 ел.). Но для Плутарха (De Pyth.
orac. 12) Аполлон является Солнцем не в буквальном, физическом
смысле, но по своим "истечениям и переменам", когда Аполлон
одновременно становится всеми стихиями, в том числе и огненной (De E
Delph. 21), и утверждается, что "Солнце является его порождением и
вечно становящимся произведением всего сущего" (De def. orac. 42).
Плутарх, таким образом, впервые делает попытку философски осмыслить
принцип, объединяющий Аполлона и Солнце, прокладывая тем самым
дорогу неоплатоническому единому, "формообразующей" монад"
Ямвлиха (In Nicom. arithm. introd. 13, 1—14, 3). У Плотина, как И у
Платона, божественное нельзя созерцать физическими глазами, но
только внутренним зрением (V 8, 10). Для Порфирия Аполлон —
"солнечный ум" (см. Prod. In Plat. Tim. I 159, 26 сл.). Прокл не
сомневается в тождестве Аполлона и Солнца (In Tim. Ill 284, 1-4),
причем, по Проклу, аполлоновский свет, проходя через мировой ум,
освещает весь чувственный мир. Наконец, понимание Солнца как
максимально универсальной мощной живительной силы, однако не
личностной, а физической, нашло свое воплощение в знаменитой речи "К
царю Солнцу" неоплатоника Юлиана. Так представление о Солнце как
высшей надмировой идее, управляющей Вселенной и ее организующей,
укрепилось в поздней античности. Ср. также т. 2, "Теэтет", 153d.
Анализ беспредпосылочного начала
Платона со ссылками на современные философские учения дан в книге
А. Ф. Лосева "История античной эстетики" (М.,
1969, стр. 627-634). А. Ф. Лосеву принадлежит также вышеуказанный
перевод этого термина.
24 Рассудок (dianoia)
является здесь промежуточной категорией между мнением (doxa)
и умом (nous), причастными соответственно чувственному и
идеальному мирам.
25 Разум (noesis) и
рассудок (dianoia) относятся Платоном к сфере умопостигаемой,
а вера и уподобление — к сфере чувственной.
далее