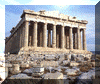Перевод А.Н. Егунова
Платон. С.с.
3-х т.Т3 (1). — М., 1971 г
Примечания А.А. Тахо-Годи
ГОСУДАРСТВО.9
(571)— Остается
рассмотреть самого человека при тираническом строе, иначе говоря,
как он развивается из человека демократического, каковы его свойства
и что у него за жизнь — бедственная или, напротив, счастливая.
— Да, пока он остался у нас без рассмотрения.
— Знаешь ли, что мне еще желательно?
— Что?
—По-моему, мы недостаточно разобрали вожделения —
в чем они состоят и сколько их. А раз этого не хватает, не будет
полной ясности и в том исследовании, которое мы предпринимаем.
— Стало быть, уместно разобрать это сейчас.
— Конечно. Посмотри, что мне хочется здесь
выяснить: из тех удовольствий и вожделений, которые лишены
необходимости, некоторые представляются мне противозаконными. Они,
пожалуй, присущи всякому человеку, но, обуздываемые законами и
лучшими вожделениями, либо вовсе исчезают у некоторых людей, либо
ослабевают, и их остается мало. Однако есть си
такие люди, у которых они становятся и сильнее, и многочисленнее.
— О каких вожделениях ты говоришь?
[Вожделения, пробуждающиеся во время сна]
— О тех, что пробуждаются во время сна когда
дремлет главное, разумное и кроткое, начало души, зато начало дикое,
звероподобное под влиянием сытости и хмеля вздымается на дыбы,
отгоняет от себя сон и ищет, как бы это удовлетворить свой норов.
Тебе известно, что в таком состоянии оно отваживается на все,
откинув всякий стыд и разум. Если ему вздумается, оно не остановится
даже перед попыткой сойтись с своей собственной матерью, да и с кем
попало из людей, богов или зверей; оно осквернит себя каким угодно
кровопролитием и не воздержится ни от какой пищи. Одним словом, ему
все нипочем в его бесстыдстве и безрассудстве.
— Сущая правда.
— Когда же человек соблюдает себя в здоровой
воздержности, он, отходя ко сну, пробуждает свое разумное начало,
потчует его прекрасными доводами и рассуждениями и таким образом
воздействует на свою совесть. Вожделеющее же начало он хоть и не
заглушает вовсе, но и не удовлетворяет его до пресыщения:
пусть оно успокоится и не тревожит своими
радостями 572и скорбями благороднейшее в
человеке; пусть это последнее без помехи, само по себе, в
совершенной своей чистоте стремится к исследованию и ощущению того,
что ему еще не известно, будь то прошлое, настоящее или будущее.
Точно так же человек укротит и яростное свое начало, для того чтобы
не отходить ко сну взволнованным и разгневанным. Успокоив эти два
вида свойственных ему начал и приведя в действие третий вид — тот,
которому присуща разумность, — человек предается отдыху. Ты знаешь,
что при таких условиях он скорее всего соприкоснется с истиной и
меньше всего будут ему мерещиться во сне всякие беззаконные видения.
— Я совершенно с тобой согласен.
— Но мы слишком отклонились в сторону, говоря об
этом. Мы хотели убедиться лишь вот в чем: какой-то страшный,
беззаконный и дикий вид желаний таится внутри каждого человека, даже
в тех из нас, что кажутся вполне умеренными: это-то и обнаруживается
в сновидениях'. Суди сам, дело ли я говорю и допускаешь ли ты это.
— Конечно, допускаю.
— Так припомни, как мы обрисовали человека,
ставшего демократом. Он чуть ли не с рождения, во всяком случае с
малых лет, воспитывался бережливым отцом, который почитал лишь
стяжательские вожделения и никакого почета не оказывал тем желаниям,
без которых, по его мнению, можно обойтись и которые, как он считал,
возникают лишь для забавы и красоты. Не так ли?
— Да, так.
— Общаясь с более изысканными людьми,
преисполненными вожделений, которые мы только что разбирали, юноша
втягивается в их образ жизни и всяческую разнузданность, потому что
ему отвратительна отцовская скупость. Но по своей природе он лучше
тех, кто его портит, поэтому он останавливается как бы посредине
между обоими этими подходами к жизни: его тянет и в ту, и в другую
сторону. Вкушая, как он считает, умеренно от обеих этих жизней, он
живет не низменной жизнью и не беззаконной и превращается из
человека олигархического в демократа.
— О подобного рода человеке составилось, да и до
сих пор держится именно такое мнение.
[Тирания и незаконные вожделения. Образ
тирана (продолжение)]
— Предположим опять-таки, что у этого человека,
когда он станет постарше, будет молодой сын, воспитанный в нравах
своего отца.
— Предположим.
— Предположи еще, что и с ним произойдет то же
самое, что с его отцом: его станет тянуть ко всяческому беззаконию,
которое его совратители называют полнейшей свободой. Отец и все
остальные его близкие поддерживают в нем склонность соблюдать
середину, но его совратители этому противодействуют. Когда же эти
искусные чародеи и творцы тиранов не надеются как-либо иначе
завладеть юношей, они ухитряются внушить ему какую-нибудь страсть,
руководящую вожделениями к праздности и к растрате накопленного;
573такая страсть — прямо-таки огромный
крылатый трутень. Или, по-твоему, это нечто иное?
— По моему, именно так.
— Вокруг этой страсти ходят ходуном прочие
вожделения, за которыми тянется поток благовонных курений и мазей,
венков, вин, безудержных наслаждений, обычных при такого рода
общениях. До крайности раздув и вскормив жало похоти, эти вожделения
снабжают им трутня, и тогда этот защитник души, охваченный
неистовством, жалит. И если он захватит в юноше какое-нибудь мнение
или желание, притязающее на порядочность и не лишенное еще
стыдливости, он убивает их, выталкивает вон, пока тот совсем не
очистится от рассудительности и не преисполнится нахлынувшим на него
неистовством.
— Ты описываешь появление вылитого тирана.
— А разве не из-за всего этого и тому подобного
Эрот2
искони зовется тираном?
— Пожалуй.
— Да и у пьяного в голове, мой друг, разве
происходит не то же, что у тирана?
— Видимо, так.
— Ну, а кто тронулся в уме и неистовствует, тот
надеется справиться не то что с людьми, но даже с богами.
— Действительно.
— Человек, мой друг, становится полным тираном
тогда, когда он пьян, или слишком влюбчив, или же сошел с ума от
разлития черной желчи, — а все это из-за того, что либо такова его
натура, либо привычки, либо то и другое.
— Совершенно верно.
— Видно, вот так и рождается подобный человек.
Ну, а как же он живет?
— Есть шутливая поговорка: "Это и ты мне скажешь"3.
— Скажу. По-моему, после этого пойдут у них
празднества, шествия всей ватагой, пирушки, заведутся подружки, ну и
так далее: ведь тиран-Эрот, обитающий в их душе, будет править всем,
что в ней есть.
— Это неизбежно.
— С каждым днем и с каждой ночью будет расцветать
много ужаснейших вожделений, предъявляющих непомерные требования.
— Да, их расцветет много.
— Значит, доходы, если какие и были, скоро
иссякнут.
— Конечно.
— А за этим последуют заклады имущества и
сокращение средств.
— И что же?
— Когда все истощится, тогда рой раздувшихся
вожделений, угнездившихся в этих людях, начнет жужжать, и люди,
словно гонимые стрекалом различных желаний, а особенно Эротом (ведь
он ведет за собой все желания, словно телохранителей), станут
жалить, высматривая, у кого что есть и что можно отнять с помощью
обмана или насилия.
— Да, конечно.
574— У них настоятельная
потребность грабить, иначе придется терпеть невыносимые муки и
страдания.
— Да, это неизбежно.
— Все возрастая, стремление такого человека к
удовольствиям превосходит его прежние прихоти и их обездоливает;
точно так же он сам начинает притязать на превосходство перед своим
отцом и матерью, поскольку он их моложе, и, издержав свою долю, он
будет присваивать и тратить отцовские деньги.
— И что же дальше?
— Если родители не допустят этого, разве он не
попытается первым делом обокрасть их и обмануть?
— Непременно.
— А если бы это было ему невозможно, разве он не
ограбил бы их, прибегнув к насилию?
— Я думаю, да.
— А если старики окажут сопротивление и вступят с
ним в борьбу, разве он пощадит их и остережется поступков,
свойственных тиранам?
— Я не поручусь за участь родителей такого
человека.
— Но, ради Зевса, Адимант, неужели из-за какой-то
новой своей подружки, без которой он мог бы и обойтись, он станет
бить любимую с детства мать? Или ради цветущего юноши, с которым он
только что подружился, хотя и без этого можно бы обойтись, он
подымет руку на своего родного отца, пусть престарелого и
отцветшего, но самого давнишнего из своих друзей? Неужели этот
человек отдаст, по-твоему, своих родителей в рабство подобным людям,
введя их в свой дом?
— Отдаст, клянусь Зевсом.
— Великое же счастье родить сына с тираническими
наклонностями!4
— Да, величайшее!
— А что же с ним будет, когда истощатся у него и
отцовские, и материнские средства, а между тем в нем скопился целый
рой прихотей? Не заставит ли его это сначала покуситься на стены
чужого дома либо на плащ запоздалого ночного прохожего, а затем
дочиста ограбить какой-нибудь храм? Во всех этих поступках прежние
его мнения о том, что прекрасно, а что гадко, усвоенные им с детских
лет и считавшиеся правильными, покорятся власти недавно выпущенных
на волю желании, сопровождающих Эрота и им возглавляемых. Раньше,
пока человек подчинялся обычаям, законам и своему отцу и внутренне
ощущал себя демократом, эти желания высвобождались у него лишь в
сновидениях; теперь же, когда его тиранит Эрот, человек навсегда
становится таким, каким изредка бывал во сне, — ему не удержаться ни
от убийства, ни от обжорства, ни от проступка, как бы ужасно все это
ни было: посреди всяческого безначалия и беззакония в нем
тиранически живет Эрот. 575Как единоличный
властитель, он доведет объятого им человека, словно подвластное ему
государство, до всевозможной дерзости, чтобы любой ценой
удовлетворить и себя, и сопровождающую его буйную ватагу,
составившуюся из всех тех вожделений, что нахлынули на человека
отчасти извне, из его дурного окружения, отчасти же изнутри, от
бывших в нем самом такого же рода вожделений, которые он теперь
распустил, дав им волю. Разве не такова жизнь подобного человека?
— Да, такова.
— Когда подобного рода людей в государстве
немного, а все прочие мыслят здраво, те уезжают в чужие земли,
служат там телохранителями какого-нибудь тирана или в наемных
войсках, если где идет война. Когда же подобные вожделения
проявляются у них в мирных условиях, то и у себя на родине они
творят много зла, хотя и по мелочам.
— Что ты имеешь в виду?
— Да то, что они совершают кражи, подкапываются
под стены, отрезают кошельки, раздевают прохожих, святотатствуют,
продают людей в рабство. Бывает, что они занимаются и доносами, если
владеют словом, а то и выступают с ложными показаниями или берут
взятки.
— Нечего сказать, по мелочам! Так ведь ты
выразился о причиняемом ими зле, когда таких людей немного?
— Да, по мелочам, потому что сравнительно с
великим злом это действительно мелочи: ведь в смысле вреда и
несчастья для государства все это лишено, как говорится, того
размаха, каким отличается тиран. Когда в государстве наберется много
таких людей и их последователей и они ощутят свою многочисленность,
то как раз из их среды и рождается тиран, чему способствует
безрассудство народа. Это будет тот из них, кто сам в себе, то есть
в своей душе, носит самого великого и отъявленного тирана.
— Естественно, ведь такой человек и будет самым
большим тираном.
— Если ему уступят без сопротивления; если же
государство не допустит этого, тогда, как в недавно упомянутом
примере у него поднялась рука на родных мать и отца, точно так же
поступит он и со своей родиной, лишь только окажется в состоянии: он
покарает ее тем, что введет в нее своих новых сподвижников; в
рабстве у них будет содержаться и воспитываться некогда милая ему
"родина-мать"5,
как говорят критяне, то есть его отечество. Вот конечная цель
вожделений подобного человека.
— Она состоит именно в этом.
— Подобного рода люди таковы и в частной жизни,
еще прежде, чем станут у власти. С кем бы они ни вступали в общение,
они требуют лести и полной готовности к услугам, а когда сами в
чем-нибудь нуждаются, тогда так и льнут к человеку, без стеснения
576делая вид, будто с ним близки, но чуть
добьются своего — они опять чужие.
— Это очень верно подмечено.
— Значит, за всю свою жизнь они ни разу ни с кем
не бывали друзьями; они вечно либо господствуют, либо находятся в
рабстве: тираническая натура никогда не отведывала ни свободы, ни
подлинной дружбы.
— Конечно.
— Разве не правильно было бы назвать таких людей
не заслуживающими доверия?
— Как же иначе!
— Да и в высшей степени несправедливыми, если в
нашей беседе мы правильно сделали раньше вывод относительно того, в
чем заключается справедливость.
— Конечно, мы сделали его правильно.
— Итак, о крайне дурном человеке давай мы в общих
чертах скажем так: это человек, который и наяву таков, как в тех
сновидениях, что мы разбирали.
— Совершенно верно.
— А таким становится тот, кто при своих природных
тиранических склонностях достигает единоличной власти, и, чем дольше
он обладает такой властью, тем более он становится таким.
— Это уж обязательно, — сказал Главкон, в свою
очередь вступая в беседу.
[Тираническая душа несчастна]
с—Так вот, разве не
окажется самым несчастным человеком тот, кто является отъявленным
негодяем? И чем дальше и больше была бы в его руках власть, тем
больше и на более долгий срок он был бы таким в действительности,
хотя большинство представляет это себе по-разному.
— Нет, это необходимо обстоит именно так.
— А также и в отношении сходства: человек
тиранический соответствует тиранически управляемому государству, а
демократ — государству демократическому. И в остальных случаях то же
самое?
— Как же иначе?
— И как государство относится к государству в
смысле добродетели и благополучия, так и человек относится к
человеку?
— Не иначе.
— А как, в смысле добродетели, относится
государство с тираническим строем к государству, управляемому царем,
которое мы разбирали раньше?
— Они совершенно противоположны друг другу: одно
из них — самое благородное, другое — самое низкое.
— Я не стану спрашивать, какое из них ты считаешь
каким, — это и без того ясно. Но в смысле процветания или, наоборот,
бедности ты так же решаешь или иначе? Нас не должно поражать зрелище
тирана, отдельно взятого или окруженного немногочисленной свитой,
нам надо рассмотреть все государство в целом, 'войти в него, во все
вникнуть и, присмотревшись, уже тогда высказывать о нем свое мнение.
— Твое требование правильно. Однако всякому ясно,
что нет более жалкого государства, чем управляемое тиранически, и
более благополучного, чем то, в котором правят цари.
— А если и применительно к отдельным людям я
потребовал бы того же самого, разве мое требование не было бы
правильным? Я считаю, что о них может 577судить
лишь тот, кто способен рассматривать человека, вникая мысленно в его
нрав, а не глядеть, как ребенок, только на внешность и поражаться
всему тому, что у тиранов придумывается для представительства, чтобы
произвести впечатление на посторонних: надо уметь в этом
разбираться. Мне думается, всем нам следовало бы прислушаться к
отзывам того, кто действительно имел возможность составить себе
суждение, то есть кто проживал бы в одном доме с тираном, наблюдал
бы его домашний обиход и его отношение к членам семьи: тогда тиран
предстал бы перед нами в наиболее обнаженном виде, без этих пышных
одеяний, словно для постановки трагедии. То же самое и когда
положение в государстве принимает опасный оборот: кто наблюдал все
это, пусть бы сообщил нам, как обстоит у тирана дело в смысле
благополучия либо несчастья сравнительно с остальными людьми.
— И это твое требование было бы в высшей степени
правильным.
— Хочешь, мы предположим, что принадлежим к числу
тех, кто может так судить, или что мы уже встретились с подобного
рода людьми? Тогда у нас было бы кому отвечать на наши вопросы.
— Конечно, хочу.
— Ну так подойди к рассмотрению этого вопроса вот
каким образом: припомни, в чем сходство между государством и
отдельным человеком, и по очереди бери ту или иную черту, указывая,
каково при этом состояние того и другого.
— А именно как это делать?
— Прежде всего, если начать с государства:
свободным или рабским ты назовешь государство с тираническим строем?
— Как нельзя более рабским.
— Однако ж ты видишь, что там есть господа и
свободные люди.
— Да, вижу, но их совсем мало, а все государство
в целом, да и самое в нем порядочное находится в
позорном и бедственном рабстве.
— Раз отдельный [тиранический] человек подобен
такому же государству, то и в нем необходимо должен быть тот же
порядок: душа его преисполнена рабством и низостью, те же ее части,
которые были наиболее порядочными, находятся в подчинении, а
господствует лишь малая ее часть, самая порочная и неистовая.
— Это неизбежно.
— Что же, назовешь ли ты такую душу рабской или
свободной?
— Я-то назову ее рабской.
— А ведь рабское и тиранически управляемое
государство всего менее делает то, что хочет.
— Конечно.
— Значит, и тиранически управляемая душа всего
менее будет делать что ей вздумается, если говорить о душе в целом.
Всегда подстрекаемая и насилуемая яростным слепнем, она будет полна
смятения и раскаяния.
— Несомненно.
— Богатым или бедным бывает по необходимости
тиранически управляемое государство?
— Бедным.
578— Значит, и
тиранически управляемой душе приходится неизбежно быть всегда бедной
и неудовлетворенной.
— Да, это так.
— Что же? Разве такое государство и такой человек
не преисполнены неизбежно страха?
— И даже очень.
— Где еще, в каком государстве, по-твоему, больше
горя, стонов, плача, страданий?
— Нигде.
— А думаешь ли ты, что всего этого больше у
кого-нибудь другого, чем у человека тиранического, неистовствующего
из-за своих вожделений и страстей?
— Конечно, у него этих переживаний больше, чем у
любого.
— Глядя на все это и тому подобное, я думаю, ты
решил, что такое государство — самое жалкое из государств?
— А разве это неверно?
— Даже очень верно. Но что ты скажешь о человеке
с тираническими наклонностями, если заметишь в нем то же самое?
— Он много несчастливее всех остальных.
— Вот это ты уже говоришь неверно.
— Как так?
— Я думаю, что вовсе не он всех несчастнее.
— А кто же?
— Еще несчастнее его покажется тебе, пожалуй, вот
какой человек...
— Какой?
— Да тот, кому при его тиранических наклонностях
не удастся прожить весь свой век частным лицом, раз уж его постигнет
такая беда, что какое-нибудь стечение обстоятельств позволит ему
стать тираном.
— Из того, о чем у нас раньше шла речь, я
заключаю, что ты прав.
— Да, но в таких вопросах нельзя довольствоваться
общими соображениями, а нужно таким же способом, как раньше,
исследовать все досконально. Ведь тут исследование касается самого
главного — хорошей и дурной жизни.
— Совершенно верно.
— Посмотри же, дело ли я говорю. При рассмотрении
этого вопроса надо, по-моему, исходить из следующего...
— Из чего именно?
— Да из того, в каком положении находится любой
из богатых граждан, владелец многих рабов. Эти люди очень похожи на
тиранов тем, что им подвластны многие: тут разница только в том, что
тирану подвластно больше народа.
— Да, в этом вся разница.
— Как ты знаешь, такие люди живут спокойно и не
боятся своей челяди.
— С чего же им бояться?
— Да не с чего. Но понимаешь ли ты, что этому
причиной?
— Да то, что любому из частных лиц приходит на e
помощь все государство.
— Вот именно. Ну, а если кто из богов возьмет
такого человека, имеющего пятьдесят или больше рабов, и перенесет
его в пустыню вместе с женой, детьми, челядью и со всем имуществом —
туда, где не найдется свободнорожденных людей, чтобы оказать ему
помощь, — сколько бы у него, по-твоему, возникло разных опасений,
страхов за себя, за детей и за жену, как бы их всех не погубила
челядь?
— По-моему, он всегда был бы в страхе.
579— Разве не стал бы он
заискивать кое перед кем из своих рабов, не давал бы разные
обещания, не начал бы отпускать их на волю без всякой надобности? Он
сам оказался бы льстецом у своей прислуги.
— Это для него неизбежно: иначе он погибнет.
— Ну, а если вокруг него бог поселит множество
соседей, однако таких, что они не выносят притязаний человека на
господство и, если уж им подвернется такой человек, карают его
крайними мерами?
— Тогда он и вовсе попадет в беду, раз его кругом
сторожат одни лишь враги.
— А разве не в такой тюрьме содержится тот тиран,
чью натуру мы разбирали? Ведь он полон множества разных страстей и
страхов; со своей алчной душой только он один во всем государстве не
смеет ни выехать куда-либо, ни пойти взглянуть на то, до чего
охотники все свободнорожденные люди; большей частью он, словно
женщина, живет затворником в своем доме и завидует остальным
гражданам, когда кто-нибудь уезжает в чужие земли и может увидеть
что-то хорошее.
[Осуществление тиранических наклонностей —
еще худшее зло для человека, чем их подавление]
— Это бывает именно так.
— Вдобавок ко всем этим бедам еще хуже придется
тому, кто внутренне плохо устроен, то есть человеку с тираническими
наклонностями (ты недавно признал его самым несчастным), если он не
проведет всю свою жизнь как частное лицо, а будет вынужден каким-то
случаем действительно стать тираном и, не умея справиться с самим
собой, попытается править другими. Это вроде того, как если бы
человек слабого здоровья, не справляющийся со своими болезнями,
проводил свою жизнь не в уединении, а, напротив, был бы вынужден
бороться и состязаться с сильными и крепкими людьми.
— Между ними полнейшее сходство, Сократ, ты
совершенно прав.
— Так не правда ли, дорогой мой Главкон, такое
состояние — это, безусловно, несчастье, и жизнь того, кто сделался
тираном, еще тяжелее жизни, которую ты признал самой тяжкой для
человека?
— Да, это очевидно.
— Значит, хотя иной с этим и не согласится, но,
по правде говоря, кто подлинно тиран, тот подлинно раб величайшей
угодливости и рабства, вынужденный льстить самым дурным людям. Ему
не удовлетворить своих вожделений, очень многого ему крайне
недостает, он оказывается поистине бедняком, если кто умеет охватить
взглядом всю его душу. Всю свою жизнь он полон страха, он
содрогается и мучается, коль скоро он сходен со строем того
государства, которым управляет. А сходство между ними ведь есть, не
правда ли?
— И притом большое.
580— Кроме того, мы
отметим в этом человеке те черты, о которых мы уже говорили раньше:
власть неизбежно делает его завистливым, вероломным, несправедливым,
недружелюбным и нечестивым; он поддерживает и питает всяческое зло;
все это постепенно разовьется в нем еще больше; он будет чрезвычайно
несчастен и такими же сделает своих близких.
— Никто из людей со здравым смыслом не станет .
этого оспаривать.
[Градация пяти складов души по степени
счастья]
— Так подойди же! В таком случае у нас словно уже
имеется судья по всем этим вопросам. Итак, выноси решение: кто,
по-твоему, займет первое место по счастью, кто — второе и так далее
из пяти представителей — царского строя, тимократии, олигархии,
демократии и тирании?
— Решение вынести нетрудно: в смысле добродетели
и порока, счастья и его противоположности я ставлю их в том же
порядке, в каком они выступали перед нами подобно театральным хорам6.
— Так давай наймем глашатая! Или я сам объявлю,
что сын Аристона вынес решение считать самым счастливым самого
добродетельного и справедливого человека, а таким будет человек
наиболее царственный, властвующий над самим собой; самым несчастным
он считает самого порочного и несправедливого, а таким будет тот,
кто и сам для себя худший тиран, да еще и до крайности тиранит свое
государство.
— Пусть у тебя так и будет объявлено!
— А не добавить ли мне еще, что все это
независимо от того, останутся ли эти их свойства тайной для всех
людей и богов?
— Добавь и это.
— Пусть так! Пусть это будет нашим первым
доказательством. Другим должно быть вот какое, если только оно
убедительно...
— Что же это за доказательство?
[Соответствие трех начал человеческой души
трем сословиям государства и трем видам удовольствий]
— Раз государство подразделяется на три сословия,
то и в душе каждого отдельного человека можно различить три начала7.
Здесь, мне кажется, возможно еще одно доказательство.
— Какое же?
— Следующее: раз в душе имеются три начала, им,
на мой взгляд, соответствуют три вида удовольствий, каждому началу
свой. Точно так же подразделяются вожделения и власть над ними.
— Что ты имеешь в виду?
— Мы говорили, что одно начало — это то,
посредством которого человек познает, другое — посредством которого
он распаляется, третьему же, из-за его многообразия, мы не смогли
подыскать какого-нибудь одного, присущего ему, обозначения и потому
назвали его по тому признаку, который в нем выражен наиболее резко:
мы нарекли его вожделеющим — из-за необычайной силы вожделений к
еде, питью, любовным утехам и всему тому, что с этим связано. Сюда
относится и сребролюбие, потому что для удовлетворения таких
вожделений очень нужны деньги.
581— Да, мы правильно
это назвали.
— Если бы мы даже про наслаждение и любовь этого
начала сказали, что они направлены на выгоду, мы всего более
выразили бы таким образом одну из его главных особенностей, так что
нам всякий раз было бы ясно, о какой части души идет речь; и, если
бы мы назвали это начало сребролюбивым и корыстолюбивым, разве не
было бы правильным такое наименование?
— Мне-то кажется, что да.
— Дальше. Не скажем ли мы, что яростный дух
всегда и всецело устремлен на то, чтобы взять верх над кем-нибудь,
победить и прославиться?
— Безусловно.
— Так что, если мы назовем его честолюбивым и
склонным к соперничеству, это будет уместно?
— В высшей степени.
— Ну, а то начало, посредством которого мы
познаем? Всякому ясно, что оно всегда и полностью направлено на
познание истины, то есть того, в чем она состоит, а о деньгах и
молве заботится всего менее.
— Даже совсем не заботится.
— Назвав его познавательным и философским, мы
обозначили бы его подходящим образом?
— Конечно.
с— Но у одних людей
правит в душе одно начало, а у других — другое; это уж как придется.
— Да, это так.
— Поэтому давай прежде всего скажем, что есть три
рода людей: одни — философы, другие — честолюбцы, третьи —
сребролюбцы.
— Конечно.
— И что есть три вида удовольствий соответственно
каждому из этих видов людей.
— Несомненно.
— А знаешь, если у тебя явится желание спросить
поочередно этих трех людей, какая жизнь всего приятнее, каждый из
них будет особенно хвалить свою. Делец скажет, что в сравнении с
наживой удовольствие от почета или знаний ничего не стоит, разве что
и из этого можно извлечь доход.
— Верно.
— А честолюбец? Разве он не считает, что
удовольствия, доставляемые деньгами, — это нечто пошлое, а с другой
стороны, удовольствие от знаний, поскольку наука не приносит почета,
— это просто дым?
— Да, он так считает.
— Чем же, думаем мы, считает философ все прочие
удовольствия сравнительно с познанием истины — в чем она состоит — и
постоянным расширением своих знаний в этой области? Разве он не
находит, что все прочее очень далеко от удовольствия? Да и в других
удовольствиях он ничуть не нуждается, разве что их уж нельзя
избежать: поэтому-то он и называет их необходимыми.
— Это следует хорошо знать.
— А когда под сомнение берутся удовольствия и
даже сам образ жизни каждого из трех видов людей — не с точки зрения
того, чье существование прекраснее 582или
постыднее, лучше или хуже, а просто спор идет о том, что приятнее и
в чем меньше страданий, — как нам узнать, кто из них всего более
прав?
— На это я затрудняюсь ответить.
— А ты взгляни вот как: на чем должно
основываться суждение, чтобы оно было верным? Разве не на опыте, на
разуме и на доказательстве? Или есть лучшее мерило, чем это?
— Нет, конечно.
— Так посмотри: из этих трех человек кто всего
опытнее в тех удовольствиях, о которых мы говорили? У корыстолюбца
ли больше опыта в удовольствии от познания, когда человек постигает
самое истину, какова она, или же философ опытнее в удовольствии от
корысти?
— Философ намного превосходит корыстолюбца; ведь
ему неизбежно пришлось отведать того и другого с самого детства,
тогда как корыстолюбцу, даже если он по своим природным задаткам
способен постигнуть сущее, нет необходимости отведать этого
удовольствия и убедиться на опыте, как оно сладостно; более того,
пусть бы он и стремился к этому, для него это нелегко.
— Стало быть, философ намного превосходит
корыстолюбца опытностью в том и другом удовольствии.
— Конечно, намного.
— А как насчет честолюбца? Более ли неопытен
философ в удовольствии, получаемом от почета, чем тот — в
удовольствии от разумения?
— Но ведь почетом пользуется каждый, если достиг
своей цели. Многие почитают богатого человека, мужественного или
мудрого, так что в удовольствии от почета все имеют опыт и знают,
что это такое. А какое удовольствие доставляет созерцание бытия,
этого никому, кроме философа, вкусить не дано.
— Значит, из тех трех его суждение благодаря его
опытности будет наилучшим.
— Несомненно.
— И лишь один он будет обладать опытностью в
сочетании с разумом.
— Конечно.
— Но и то орудие, посредством которого можно
судить, принадлежит не корыстолюбцу и не честолюбцу, а философу.
— Какое орудие?
— Мы сказали, что судить надо при помощи
доказательств, не так ли?
— Да.
— Доказательства — это и есть преимущественно
орудие философа.
— Безусловно.
— Если то, что подлежит суду, судить на основании
богатства или корысти, тогда похвала либо порицание со стороны
корыстолюбца непременно были бы самыми верными суждениями.
— Наверняка.
— А если судить на основании почета, победы,
мужества, тогда, не правда ли, верными были бы суждения честолюбца,
склонного к соперничеству?
— Это ясно.
— А если судить с помощью опыта и доказательства?
— То, что одобряет человек, любящий мудрость п
доказательство, непременно должно быть самым верным.
583— Итак, поскольку
имеются три вида удовольствии, значит, то из них, что соответствует
познающей части души, будет наиболее полным, и, в ком из нас эта
часть преобладает, у того и жизнь будет всего приятнее.
— Как же ей и не быть? Недаром так расценивает
свою жизнь человек разумный — главный судья в этом деле.
— А какой жизни и каким удовольствиям отведет наш
судья второе место?
— Ясно, что удовольствиям человека воинственного
и честолюбивого — они ближе к первым, чем удовольствия
приобретателя.
— По-видимому, на последнем месте стоят
удовольствия корыстолюбца.
— Конечно.
— Итак, вот прошли подряд как бы два состязания и
дважды вышел победителем человек справедливый, а несправедливый
проиграл. Теперь пойдет третье состязание8,
олимпийское, в честь Олимпийского Зевса: заметь, что у всех, кроме
человека разумного, удовольствия не вполне подлинны, скорее они
напоминают теневой набросок; так, помнится, я слышал от кого-то из
знатоков, — а ведь это означало бы уже полнейшее поражение.
— Еще бы! Но что ты имеешь в виду?
[Удовольствие и страдание. Отличие подлинного
удовольствия от простого прекращения страданий]
— Я это найду, если ты мне поможешь своими
ответами.
— Задавай же вопросы.
— Скажи-ка, не говорим ли мы, что страдание
противоположно удовольствию?
— Конечно.
— А бывает ли что-нибудь ни радостным, ни
печальным?
— Бывает.
— Посредине между этими двумя состояниями будет
какое-то спокойствие души в отношении того и другого? Или ты это
называешь иначе?
— Нет, так.
— Ты помнишь слова больных — что они говорят,
когда хворают?
— А именно?
— Они говорят: пет ничего приятнее, чем быть
здоровым. Но до болезни они не замечали, насколько это приятно.
— Да, помню.
— И если человек страдает от какой-либо боли, ты
слышал, как говорят, что приятнее всего, когда боль прекращается?
— Слышал.
— И во многих подобных же случаях ты замечаешь, я
думаю, что люди, когда у них горе, мечтают не о радостях, как о
высшем удовольствии, а о том, чтобы не было горя и наступил бы
покой.
— Покой становится тогда, пожалуй, желанным и
приятным.
— А когда человек лишается какой-нибудь радости,
покой после удовольствия будет печален.
— Пожалуй.
— Стало быть, то, что, как мы сейчас сказали,
занимает середину между двумя крайностями, то есть покой, бывает и
тем и другим, и страданием и удовольствием.
— По-видимому.
— А разве возможно, не будучи ни тем ни другим,
оказаться и тем и другим?
— По-моему, нет.
— И удовольствие, возникающее в душе, и страдание
— оба они суть какое-то движение. Или нет?
— Да, это так.
584— А то, что не есть
ни удовольствие, ни страдание, разве не оказалось только что
посредине между ними? Это — покой.
— Да, он оказался посредине.
— Так может ли это быть верным — считать
удовольствием отсутствие страдания, а страданием — отсутствие
удовольствия?
— Ни в коем случае.
— Следовательно, этого на самом деле не бывает,
оно лишь таким представляется: покой только тогда и будет
удовольствием, если его сопоставить со страданием, и, наоборот, он
будет страданием в сравнении с удовольствием. Но с подлинным
удовольствием эта игра воображения не имеет ничего общего: в ней нет
ровно ничего здравого, это одно наваждение.
— Наше рассуждение это показывает.
— Рассмотри же те удовольствия, которым не
предшествует страдание, а то ты, может быть, думаешь, будто ныне
самой природой устроено так, что удовольствие — это прекращение
страдания, а страдание — прекращение удовольствия.
— Где же существуют такие удовольствия и в чем
они состоят?
— Их много, и притом разных, но особенно, если
хочешь это понять, Возьми удовольствия, связанные с обонянием9:
мы испытываем их вдруг, без всякого предварительного страдания, а
когда эти удовольствия прекращаются, они не оставляют по себе
никаких мучений.
— Сущая правда.
— Стало быть, мы не поверим тому, будто
прекращение страдания — это удовольствие, а прекращение удовольствия
— страдание.
— Не поверим.
— Однако так называемые удовольствия,
испытываемые душой при помощи тела, — а таких чуть ли не
большинство, и они едва ли не самые сильные, — как раз и относятся к
этому виду, иначе говоря, они возникают как прекращение страданий.
— Это правда.
— Не так же ли точно обстоит дело и с
предчувствием будущих удовольствий и страданий, иначе говоря, когда
мы заранее испытываем радость или страдаем?
— Да, именно так.
— Знаешь, что это такое и на что это очень
похоже?
— На что?
— Считаешь ли ты, что в природе действительно
есть верх, низ и середина?
— Считаю, конечно.
— Так вот, если кого-нибудь переносят снизу к
середине, не думает ли он, по-твоему, что поднимается вверх, а не
куда-нибудь еще? А остановившись посредине и оглядываясь, откуда он
сюда попал, не считает ли он, что находится наверху, а не где-нибудь
еще, — ведь он не видел пока подлинного верха?
— Клянусь Зевсом, по-моему, такой человек не
может думать иначе.
— Но если бы он понесся обратно, он считал бы,
что несется вниз, и правильно бы считал.
— Конечно.
— С ним бы происходило все это потому, что у него
нет опыта в том, что такое действительно верх, середина и низ.
— Это ясно.
[Без знания истины невозможно отличить
подлинное удовольствие от мнимого]
— Удивишься ли ты, если люди, не ведающие истины
относительно многих других вещей, не имеют здравых мнений об этом?
Насчет удовольствия, страдания и промежуточного состояния люди
настроены так, что, когда их относит в сторону страдания, они судят
верно и подлинно страдают, но, когда они переходят
585от страдания к промежуточному состоянию, они очень склонны
думать, будто это способствует удовлетворению и радости. Можно
подумать, что они глядят на серое, сравнивая его с черным и не зная
белого, — так заблуждаются они, сравнивая страдание с его
отсутствием и не имея опыта в удовольствии.
— Клянусь Зевсом, меня это не удивило бы, скорее
уж если бы дело обстояло иначе.
— Вдумайся вот во что: голод, жажда и тому
подобное — разве это не ощущение состояния пустоты в нашем теле?
— Ну и что же?
— А незнание и непонимание — разве это не
состояние пустоты в душе?
— И даже очень.
— Подобную пустоту человек заполнил бы, приняв
пищу или поумнев.
— Конечно.
— А что было бы подлиннее: заполнение более
действительным или менее действительным бытием?
— Ясно, что более действительным.
— А какие роды [вещей] считаешь ты более
причастными чистому бытию? Будут ли это такие вещи, как, например,
хлеб, напитки, приправы, всевозможная пища, или же это будет
какой-то вид истинного мнения, знания, ума, вообще всяческого
совершенства? Суди об этом вот как: то, что причастно вечно
тождественному, подлинному и бессмертному, само тождественно и
возникает в тождественном, не находишь ли ты более действительным,
чем то, что причастно вечно изменчивому и смертному, само таково и в
таком же и возникает?
— Вечно тождественное много действительнее.
— А сущность не-тождественного разве более
причастна бытию, чем познанию?
— Вовсе нет.
— Что же? А истине она больше причастна?
— Тоже нет.
— Если же она меньше причастна истине, то не
меньше ли и бытию?
— Непременно.
— Значит, всякого рода попечение о теле меньше
причастно истине и бытию, чем попечение о душе?
— Гораздо меньше.
— Не думаешь ли ты, что то же самое относится к
самому телу сравнительно с душой?
— По-моему, да.
— Значит, то, что заполняется более
действительным и само более действительно, в самом деле заполняется
больше, чем то, что заполняется менее действительным и само менее
действительно?
— Как же иначе?
— Раз бывает приятно, когда тебя наполняет
что-нибудь подходящее по своей природе, то и действительное
наполнение чем-то более действительным заставляло бы более
действительно и подлинно радоваться подлинному удовольствию, между
тем как добавление менее действительного наполняло бы менее подлинно
и прочно и доставляло бы менее достоверное и подлинное удовольствие.
— Это совершенно неизбежно.
586— Значит, у кого нет
опыта в рассудительности и добродетели, кто вечно проводит время в
пирушках и других подобных увеселениях, того, естественно, относит
вниз, а потом опять к середине, и вот так они блуждают всю жизнь. Им
не выйти за эти пределы: ведь они никогда не взирали на подлинно
возвышенное и не возносились к нему, не наполнялись в
действительности действительным, не вкушали надежного и чистого
удовольствия; подобно скоту они всегда смотрят вниз, склонив голову
к земле... и к столам: они пасутся, обжираясь и совокупляясь, и
из-за жадности ко всему этому лягают друг друга, бодаясь железными
рогами, забивая друг друга насмерть копытами — все из-за
ненасытности, так как они не заполняют ничем действительным ни
своего действительного начала, ни своей утробы10.
— Великолепно,— сказал Главкон,— словно
прорицатель, изображаешь ты, Сократ, жизнь большинства.
— И разве не неизбежно примешиваются к
удовольствиям страдания? Хотя это только призрачные образы
подлинного удовольствия, при сопоставлении с ним оказывающиеся более
бледными по краскам, тем не менее они производят сильное
впечатление, приводят людей в неистовство, внушают безумцам
страстную в них влюбленность и служат предметом раздора: так, по
утверждению Стесихора, сражались под Троей мужи лишь за призрак
Елены, не ведая правды11.
— Да, это непременно должно было быть чем-то
подобным.
— Что же? Разве не вызывается нечто подобное и
яростным началом нашей души? Человек творит то же самое либо из
зависти — вследствие честолюбия, либо прибегает к насилию из-за
соперничества, либо впадает в гнев из-за своего тяжелого нрава,
когда бессмысленно и неразумно преследует лишь одно: насытиться
почестями, победой, яростью.
— И в этом случае все это неизбежно.
— Так что же? Отважимся ли мы сказать, что даже
там, где господствуют вожделения, направленные на корыстолюбие и
соперничество, если они сопутствуют познанию и разуму и вместе с
ними преследуют удовольствия, проверяемые разумным началом, они все
же разрешатся в самых подлинных удовольствиях, поскольку подлинные
удовольствия доступны людям, добивающимся истины? Это были бы
соответствующие удовольствия, ибо что для кого-нибудь есть
наилучшее, то ему всего более и соответствует.
— Да, соответствует всего более.
[Самые подлинные удовольствия — у души,
следующей за философским началом]
— Стало быть, если вся душа в целом следует за
своим философским началом и не бывает раздираема противоречиями, то
для каждой ее части возможно не только делать все остальное по
справедливости, но и находить в этом 587свои
особые удовольствия, самые лучшие и по мере сил самые истинные.
— Совершенно верно.
— А когда возьмет верх какое-нибудь другое
начало, то для него будет невозможно отыскать присущее ому
удовольствие, да и остальные части будут вынуждены стремиться к
чуждому им и не истинному.
— Это так.
— И чем дальше отойти от философии и разума, тем
больше это будет происходить.
— Да, намного больше.
[Два полюса: тиранические и царственные
вожделения и удовольствия]
— А всего дальше отходит от разума то, что
отклоняется от закона и порядка.
— Это ясно.
— Уже было выяснено, что всего дальше отстоят от
разума любовные и тиранические вожделения.
— Да, всего дальше.
— А всего ближе к нему вожделения царственные и
упорядоченные.
— Да.
— Всего дальше, я думаю, отойдет от подлинного и
собственного своего удовольствия тиран, а всего ближе к нему будет
царь.
— Неизбежно.
— Значит, тиран будет вести жизнь, совсем
лишенную удовольствий, а у царя их будет много.
— Да, и это совсем неизбежно.
— А знаешь, во сколько раз меньше удовольствий в
жизни тирана, чем у царя?
— Скажи мне, пожалуйста, ты.
— Существуют, как видно, три вида удовольствий:
один из них — подлинный, два — ложных. Тиран, избегая закона и
разума, перешел в запредельную область ложных удовольствий. Там он и
живет, и телохранителями ему служат какие-то рабские удовольствия.
Во сколько раз умалились его удовольствия, не так-то легко сказать,
разве что вот как...
— Как?
— После олигархического человека тиран стоит на
третьем месте, а посредине между ними будет находиться демократ.
— Да.
— И сравнительно с подлинным удовольствием у
тирана, считая от олигарха, получится уже третье призрачное его
подобие, если верно все сказанное нами раньше.
— Да, это так.
— Между тем человек олигархический и сам-то стоит
на третьем месте от человека царственного, если мы будем считать
последнего тождественным человеку аристократическому.
— Да, на третьем.
— Значит, трижды три раза — вот во сколько раз
меньше, чем подлинное, удовольствие тирана.
— По-видимому.
— Значит, это призрачное подобие было бы
[квадратной] плоскостью, выражающей размер удовольствия тирана.
— Верно.
— А если взять вторую и третью степень, станет
ясно, каким будет расстояние, отделяющее тирана [от царя].
— По крайней мере ясно тому, кто умеет вычислять.
— Если же кто в обратном порядке станет
определять, насколько отстоит царь от тирана в смысле подлинности
удовольствия, то, доведя умножение до конца, он найдет, что царь
живет в семьсот двадцать девять раз приятнее, а тиран во столько же
раз тягостнее.
588— Ты сделал
поразительное вычисление! Вот как велика разница между этими двумя
людьми, то есть между человеком справедливым и несправедливым, в
отношении к удовольствию и страданию.
— Однако это число верно и вдобавок оно подходит
к [их] жизням, поскольку с ними находятся в соответствии сутки,
месяцы и годы12.
— Да, в соответствии.
— Если даже в смысле удовольствия хороший и
справедливый человек стоит настолько выше человека подлого и
несправедливого, то насколько же выше будет он по благообразию своей
жизни, по красоте и . добродетели!
— Клянусь Зевсом, бесконечно выше.
[Недостаточность показной справедливости]
— Хорошо. А теперь, раз мы заго ворили об этом,
давай вернемся к тому, что было сказано раньше и что привело нас к
этому вопросу. Тогда говорилось, что человеку, полностью
несправедливому, выгодно быть несправедливым при условий, что его
считают справедливым. Не так ли было сказано?
— Да, так.
— Давай же теперь обсудим это утверждение, раз мы
пришли к согласию насчет значения справедливой и несправедливой
деятельности.
— Как же мы будем это обсуждать?
— Мы создадим некое словесное подобие души, чтобы
тот, кто тогда это утверждал, увидел, что он, собственно, говорит13.
— Каким же будет это подобие?
— Чем-нибудь вроде древних чудовищ — Химеры,
Скиллы, Кербера, — какими уродились они согласно сказаниям. Да и о
многих других существах говорят, что в них срослось несколько разных
образов14.
— Да, говорят.
— Так вот, создай образ зверя, многоликого и
многоголового. Эти лики — домашних и диких зверей — расположены у
него кругом, он может их изменять и производить все это из самого
себя.
— Тут потребовался бы искусный ваятель! Впрочем,
поскольку гораздо легче лепить из слов, чем из воска или других
подобных вещей, допустим, что такой образ уже создан.
— И еще создай образ льва15
и образ человека, причем первый будет намного большим, а второй
будет уступать ему по величине.
— Это легче: они уже готовы.
— Хоть здесь и три образа, но ты объедини их так,
чтобы они крепко срослись друг с другом.
— Готово, они скреплены.
— Теперь придай им снаружи, вокруг, единый облик
— облик человека, так чтобы все это выглядело как одно живое
существо, иначе говоря, как человек, по крайней мере для того, кто
не в состоянии рассмотреть, что находится там, внутри, и видит
только внешнюю оболочку.
— Готово и это.
— В ответ тому, кто утверждает, будто такому
человеку полезно творить несправедливость, а действовать по
справедливости невыгодно, мы скажем, что тем самым, собственно
говоря, утверждается, будто полезно откармливать многоликого зверя,
делать мощным и его, и льва, и все, что ко льву относится, а
человека морить голодом, ослаблять, чтобы те могли
589тащить его куда им вздумается, и он не был бы в состоянии
приучить их к взаимной дружбе, а вынужден был бы предоставить им
грызться между собой, драться и пожирать друг друга.
— Именно такой смысл заключался бы в утверждении
того, кто одобряет несправедливость.
— В свою очередь тот, кто признает полезность
справедливости, тем самым утверждает, что нужно делать и говорить
все то, при помощи чего внутренний человек сумеет совладать с тем
[составным] человеком и как хозяин возьмет на себя попечение об этой
многоголовой твари, взращивая и облагораживая то, что в ней есть
кроткого, и препятствуя развитию ее диких свойств. Он заключит союз
со львом и сообща с ним будет заботиться обо всех частях, заставляя
их быть дружными между собою и с ним самим. Вот как бы он их растил.
— Конечно, именно это утверждает тот, кто хвалит
справедливость.
— Как ни поверни, выходит, что говорит правду
тот, кто прославляет справедливость, а кто хвалит несправедливость,
тот лжет. Рассматривать ли это с точки зрения удовольствия, доброй
славы или пользы, всегда будет прав тот, кто одобряет
справедливость, а тот, кто ее бранит, ровно ничего не смыслит — лишь
бы ему браниться.
— По-моему, этот человек ни в чем не разбирается.
— Мы станем кротко убеждать его — ведь не по ,
доброй же воле он ошибается — и зададим ему такой вопрос: "Чудак, не
таким же ли образом возникли общепринятые взгляды на прекрасное и
постыдное? Когда звероподобную сторону своей натуры подчиняют
человеческой — вернее, пожалуй, божественной, — это прекрасно, когда
же кротость порабощается дикостью, это постыдно и безобразно".
Согласится он, как ты думаешь?
— Да, если последует моему совету.
— Исходя из этого рассуждения, принесет ли
кому-нибудь пользу обладание золотом, полученным несправедливым
путем? Ведь при этом происходит примерно вот что: золото он возьмет,
но одновременно с этим поработит наилучшую свою часть самой
скверной. еИли если за золото человек
отдаст сына или дочь в рабство, да еще людям злым и диким, этим он
ничего не выгадает, даже если получит за это очень много. Коль скоро
он безжалостно порабощает самую божественную свою часть, подчиняя ее
самой безбожной и гнусной, разве это не жалкий человек и разве
полученная им мзда не ведет его к еще более ужасной гибели, чем
Эрифилу16,
обретшую ожерелье ценой души своего мужа?
590— Конечно, он еще
много несчастнее, отвечу я тебе вместо твоего собеседника, — сказал
Главкон.
— А как по-твоему, не потому ли с давних пор
осуждали невоздержность, что она сверх всякой меры дает волю в
невоздержном человеке той страшной, огромной и многообразной твари?
— Конечно, поэтому.
— А самодовольство и брюзгливость порицаются не
тогда ли, когда усиливается и без меры напрягается та сторона
человека, которая имеет сходство со львом или со змеей?
— Несомненно.
— Изнеженность и вялость осуждаются из-за
расслабленности и распущенности, из-за того, что они вселяют в
человека робость.
— Безусловно.
— Низкая угодливость вызывается тем, что как раз
яростное начало души человек подчиняет тому неуемному, как толпа,
зверю, который из алчности к деньгам и ненасытности смолоду
приучается помыкать этим своим началом, превращаясь из льва в
обезьяну.
— Конечно, это именно так.
— Почему, как ты думаешь, ставятся человеку в
упрек занятия ремеслами и ручным трудом? Укажем ли мы какую-нибудь
иную причину, или здесь дело н том, что, когда у человека лучшая его
часть ослаблена, так что ему не под силу справиться с теми тварями,
которые находятся у него внутри, он способен лишь угождать им? Как
их ублажать — вот единственное, в чем он знает толк.
— Видимо, да.
— Для того чтобы и такой человек управлялся
началом, подобным тому, каким управляются лучшие люди, мы скажем,
что ему надлежит быть рабом лучшего человека, в котором
господствующее начало — божественное. Не во вред себе должен быть в
подчинении раб, как это думал Фрасимах17
относительно всех подвластных; напротив, всякому человеку лучше быть
под властью божественного и разумного начала, особенно если имеешь
его в себе как нечто свое; если же этого нет, тогда пусть оно
воздействует извне, чтобы по мере сил между всеми нами было сходство
и дружба и мы все управлялись бы одним и тем же началом.
— Это верно.
— Да и закон, поскольку он союзник всех граждан
государства, показывает, что он ставит себе такую же цель. То же и
наша власть над детьми: мы не даем им воли до тех пор, пока не
научим их, словно некое государство, какому-то распорядку и,
развивая в себе 591лучшее начало, не
поставим его стражем и правителем над таким же началом у них: после
этого мы отпускаем их на свободу.
— Это очевидно.
— Так каким же образом, Главкон, и на каком
основании могли бы мы сказать, будто полезно поступать
несправедливо, быть невоздержным и делать гадости? От этого человек
будет только хуже, хотя бы он и приобрел много денег и в других
отношениях стал бы могущественным.
— Такого основания нет.
— А какая польза для несправедливого человека,
если его поступки останутся втайне и он не будет привлечен к
ответственности? Разве тот, кто утаился, не делается от этого еще
хуже? У человека, который не скрывается и подвергается наказанию,
звероподобное начало его души унимается и укрощается, а кроткое
высвобождается, и вся его душа в целом, направленная теперь уже в
лучшую сторону, проникается рассудительностью и справедливостью
наряду с разумностью, причем становится настолько же более ценной,
чем тело — хотя бы и развивающее свою силу, красоту и здоровье, —
насколько вообще ценнее тела душа.
с— В этом нет никакого
сомнения.
— И не правда ли, человек разумный построит свою
жизнь, направив все свои усилия именно на это? Он будет прежде всего
ценить те познания, которые делают его душу такой, а прочими
пренебрежет.
— Это ясно.
— Далее. Он не подчинит состояние своего тела и
его питание звероподобному и бессмысленному удовольствию, обратив в
эту сторону все свое существование. Даже на здоровье он не будет
обращать особого внимания, не поставит себе целью непременно быть
сильным, здоровым, красивым, если это не будет способствовать
рассудительности. Он обнаружит способность наладить гармонию своего
тела ради гармонической согласованности души.
— Непременно, раз он хочет быть поистине
просвещенным и сведущим.
— И в обладании имуществом у него также будет
порядок и согласованность? Большинство людей превозносит богатство,
но разве он поддастся этому и станет беспредельно его увеличивать,
так что и конца не будет беде?
— Не думаю.
— Он будет соблюдать свой внутренний строй и е
будет начеку — как бы там что ни нарушилось из-за изобилия или,
наоборот, недостатка имущества: так станет он управлять своими
доходами и расходами.
— Несомненно.
— Но и в том, что касается почестей, он будет
учитывать то же самое: он не отклонит их и даже охотно отведает,
если найдет, что они делают его добродетельнее,
592но, если они нарушат достигнутое им состояние
согласованности, он будет избегать их и в частной, и в общественной
жизни.
— Раз он заботится об этом, значит, он не захочет
заниматься государственными делами.
— Клянусь собакой, очень даже захочет, но только
в своем государстве, а у себя на родине, может быть, и нет, разве уж
определит так божественная судьба.
— Понимаю: ты говоришь о государстве, устройство
которого мы только что разобрали, то есть о том, которое находится
лишь в области рассуждений, потому что на земле, я думаю, его нигде
нет.
— Но быть может, есть на небе18
его образец, доступный каждому желающему: глядя на него, человек
задумается над тем, как бы это устроить самого себя. А есть ли такое
государство на земле и будет ли оно — это совсем неважно. Человек
этот занялся бы делами такого — и только такого — государства.
— Да, так и следует.
Примечания Тахо-Годи
1
Аристотель в "Никомаховой этике" исследует вопрос о разумной и
неразумной частях души. Оказывается, что растительная часть
неразумной души "более всего деятельна во время сна" и поэтому даже
сновидения порядочных людей "становятся худшими", т. e. жизнь людей
хороших во сне "ничем не отличается от жизни несчастных", иначе, по
Аристотелю, дурных людей (см. I 13, 1102bЗ-11).
2 Об Эроте см. т. 2, прим.
25 к диалогу "Пир".
3 Схолиаст к данному месту
поясняет, что это поговорка о тех, кто, не зная ответа сам, ищет его
у своего собеседника, задавшего вопрос.
4 Эта характеристика сына,
воспитанного в стремлении к тирании, имеет великолепную комедийную
параллель в "Облаках" Аристофана, где также показан процесс
формирования будущего демагога, для которого нет ничего святого и
который готов поднять руку на собственных родителей. См. особенно
спор Правды и Кривды (ст. 889-1104) и конец комедии, где сын,
презирая отца, бьет его и еще ловко доказывает, что бьет его "по
справедливости", а отец в отчаянии бранит его "отцеубийцей",
"мошенником" и "нечестивцем" (1325-1335), в ответ на что сын обещает
избить также еще и мать (1444). Сын — Фидиппид — обучается философии
жизни в школе, якобы возглавляемой Сократом. Известно, что враги
Сократа распространяли слухи о его влиянии на Алкивиада,
стремившегося к тирании, и Крития — одного из Тридцати тиранов,
которые как раз очень рано отошли от Сократа, не найдя в его учении
подходящей для себя почвы.
5 "Родина-мать":
лексикограф Фотий (v. metrida) поясняет, что "Платон и комик
Ферекрат употребляют это слово в значении отечество".
6 Хор в античном театре
обычно олицетворял собою народную мудрость Хор в античном театре
обычно олицетворял собою народную мудрость и давал оценку всему
происходящему.
7 О тройственном составе
человеческой души см. вып кн. IV, 439 b—441 а и прим. 19.
8 Сократ показал, во-первых,
рабское состояние города, не павшего под власть тирана, и жалкую
жизнь самого тирана, запуганного своей же властью (577с — 580с);
во-вторых, что философ обладает тем высоким удовольствием, которое
соответствует разумной части души (580d — 583а); наконец, в-третьих,
он собирается доказать, что удовольствие других людей — только тень
истинного, чистого удовольствия, доступного философу.
Метафора здесь взята от пиршественных
возлияний; ср. выше, прим. 59 к диалогу "Филеб".
9 Об удовольствиях от
запахов см. также "Филеб", прим 46.
10 Подобный же образ есть в
"Горгии" (493b), где люди, не просвещенные разумом, разнузданные и
алчные, сравнивают с дырявой бочкой.
11 О Стесихоре и его
палинодии Елене см. также т. 2, прим. 25 к диалогу "Федр".
12 Платон, как это для него
чрезвычайно характерно, очень часто передает моральные качества и
состояние человека посредством геометрических фигур, требующих
простейших арифметических расчетов. Здесь перед нами Сократ рисует
разные форм правления и типы удовольствий, которыми обладает тот или
иной правитель, причем выясняется, насколько подлинное удовольствие
царя превышает так называемое удовольствие тирана. Счастье тирана
есть лишь тень тени истинного счастья и может быт выражено только
квадратом, сторона которого равна 9, а площадь — числу 81. Однако,
чтобы выразить всю глубину падения тирана или, что то же самое, всю
глубину царственного удовольствия, необходимо создание тела с тремя
измерениями, т. e. куб (9х9х9=729).
Итак, мы имеем следующие пропорции: 9: 81:
729. Царственное счастье, следовательно, в 729 раз превосходит
удовольствие тирана. Это число, по Платону, соответствует сумме
чисел дней и ночей в году: 364 1/2 + 364 1/2 (ср. Филолай, 44
А 22). Но это же число выражает так называемый большой год, согласно
пифагорейцу Филолаю (см. там же), состоящий из 59 лет и 21
добавочного месяца, что всего составляет 729 месяцев; возможно,
здесь имеется в виду именно этот большой год.
Что касается жизней, то, может
быть, жизнь царя равна числу 729, разделенному на 12 месяцев, т. e.
приблизительно 67 годам, что превышает обычно отмеряемые античностью
годы полной жизни — 60 лет.
13 Намек на Фрасимаха,
который в кн. I (343d — 344с) доказывал, что несправедливость
сильнее и могущественнее справедливости и приносит человеку больше
пользы, чем последняя.
14 Химера, Скилла,
Кербер — мифологические чудовища. Химера — существо с
телом дракона и головой льва. Скилла — чудовище с шестью
собачьими головами, обитающее в пещере над морем и пожирающее
мореходов пастью с тремя рядами зубов. Кербер — пес с 50
головами, рожденный Ехидной и Тифоном. У римских авторов Вергилия (Aen
VI 417—423) и Овидия (Met. IV 449 сл.) Кербер с тремя головами и
змеиным хвостом. Он стережет вход в Аид.
15 Ср. Данте.
Вступление к "Божественной Комедии", где говорится об одном из трех
страшных грехов, воплощенном в образе рыси "в ярких пятнах пестрого
узора".
16 Эрифила— мать
Алкмеона и супруга Амфиарая, не желавшего по своему благочестию
выступить в поход против Фив. Она выдала своего мужа, соблазнившись
драгоценным ожерельем (Гомер. Од. XI 326 сл.).
17 См. выше, кн. I 343а-b.
18 В "Законах" все виды
общества объявляются Платоном лишь "сожительством граждан, где одна
часть владычествует, а другая рабски повинуется", а не подлинным
"государственным устройством". Подлинному государству "надо было бы
дать название по имени бога, истинного владыки разумных людей" (IV
713а). Таковым, по древнему мифу, было государство при самом Кроносе.
Но царство Кроноса — это "золотой век" (ср. Hes. Орр. 109-126),
когда правят не цари, а существа божественного рода, демоны (гении)
("Законы", 713b-с). Для трех собеседников в "Законах" естественно
строить идеальное государство по подобию божьему.
далее