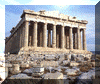И вокруг...
Несколько
вступительных замечаний. Перед нами
несколько очень разных книг, которые
будут интересны нам в том отношении,
что в них герой Гёте, Мефисто-Мефистофель,
как раз представлен почти во всех мыслимых
для культурной европы "ипостасях".
Итак,
это следующие работы:
-
Мирча
Элиаде. “Миф о воссоединении”,
глава.:“Симпатия божества”;
-
Эрнст
Блох. “Тюбингенское введение в
философию”, глава.: “Методический
мотив путешествия”;
-
Михаил
Бахтин. “Роман воспитания и его
значение в истории реализма”,
глава.: “Время и пространство в
произведениях Гёте”;
-
А.Ф.Лосев.
“Диалектика художественной формы”,
примечание №55; “Некоторые
вопросы из истории учений о стиле”,
глава.:“От Бюффона до романтиков”,
гл.: “Гёте”;
-
В.Иванов.
“Родное и вселенское”, глава.: “На
рубеже двух эпох”;
-
В.Бабич.
“Бахтин и Богданов: традиция
натуральной философии”,
Бахтинские чтения-3, приложение к
журналу “Диалог.Карнавал.Хронотоп.”,Витебск,1998.
Но
прежде чем мы
займёмся чтением существенно-избранных
текстов о Мефистофеле, и в рамках
свободной рефлексии будем
возвращаться к первой части "Фауста",
попробуем ответить на вопрос, который
возникает перед нами уже "на пороге"
всяческого разговора и о Мефистофеле
как Мефисто, о Фаусте как о учёном, о
прологе "Фауста" Гёте как сцене, в
которой в качестве персонажа выступает
Бог, христианский Бог, подчиняясь сразу
же известным романтически-искусственным
искусственно-ограниченным
представлением о Себе как о некотором
действующем персонаже пьесы. Итак :
1. Персонаж
Бога.
Когда в
художественном произведении мы
встречаем такое действующее лицо, как
Бог, как Господь: Как к этому относиться?
С одной стороны, Бог в литературном
произведении - это персонаж,
участвующий в тех или иных перепитиях
сюжета и поэтому читатель просто не
может не отталкиваться от заключённого
в тексте “поведения” Бога и “понятиях”
о Боге. Для единства пьесы в целом это
необходимо. Тем более, по опыту
большинства драматургических и
литературных произведений, Богу-персонажу
отводится место “Пролога”, место
каймы или фона чаще всего, “место
статиста”. А активного читательского
внимания требует как раз действие
героев, персонажей, разворачивающееся
внутри, в центре полотна.
Однако, когда
персонаж Бога “говорит” более чем
странные вещи, когда понятия о
Нём, и это видно невооружённому
атеизмом простому глазу, выходят уже
очень далеко от правильных и даже
возможных, - это не может не отразиться
на основном действии пьесы. На
мотивации и поступках главных её
героев. Эти последние или сильно
обеднятся, следуя такому неживому
отношению к Богу, и сами, и станут
недостоверными, или начнут прямо
противоречить “бедному”,
схематичному описанию Бога, в свете
которого они должны бы вести себя
совсем иначе. Иными словами, в этом
втором случае гений писателя даже при
неверном понятии Бога и установки Бога,(
а часто даже глубоком атеизме,что
позволяет расширить литературу во
всяком случае на остальную, не
включаемую пока часть произведений, не
содержащих персонаж Бога, или
представление о Боге у героев и т.п.)
сумеет выстроить человеческое
поведение персонажей убедительным
образом. Так что показываемая им
художественная действительность
оказывается в итоге духовно-достоверной всё равно. Поэтому писатели и
драматурги даже безбожного, казалось
бы, мирочувствия, являемого и ими
самими и их героями, что-то могли
сказать о истинно человеческом, хотя и
мало. Происходило же это в силу того,
что Бог имеет Бого-человеческую
природу. И любое представление о Нём
сразу же выливается, сказывается,
выражается в представление о человеке.
Любой , сколь бы ни был он, как кажется,
отвлечённым, “рамочным”, - “Пролог на
небе”, за-дающий Бога в качестве
персонажа, тем самым задаст саму суть
человеческих взаимоотношений в
действиях пьесы. Если, например, мы
имеем подчёркнуто-иудейское понимание-виденье
Бога, сами действующие лица начнут
вести себя т.о. (и в этом будет
искусственное смещение от
действительности ), начнут создавать
такую “человеческую коррекцию”, чтобы
в итоговом эстетическом образе
читателя,
учитывающем в своём “формальном
закруглении” содержательный момент
этой коррекции, предстоял убедительный
и достоверный образ Бого-человека, т.е.
истинного Бога, встающего за
человеческим поступлением персонажей.
Другими словами, коррекция Бога как
персонажа , более-менее большая,
порождает искусственную же коррекцию
поступающего персонажа. Причём
коррекция персонажа касается не самой
способности его поступать и быть
ответственным за это перед другими, т.е.
не способа персонажного существования,
как и не его отдельного характера,
становящегося или проявляющегося по
ходу действия. Нет. Вся пьеса,
произведение, полифония, деформируется
так, чтобы из глубины этой
искусственной позиции виделась
Богочеловеческая перспектива
поступления героя.
Так
это в драматургии. Но и в
полифоническом романе( вспоминая
концепцию М.Бахтина, связанную с
отчуждением и диалогической
расстоновкой голосов в романах типа
"Идиот" Достоевского, концепцию,
наделяющую персонаж определённой
максимальной свободой речевого
действия, тождественного поступку),
этой одной из литературных вершин европейского
реализма Нового времени, “расстелившей”
перед всеми своими персонажами “общую
и существенную человеческую
реальность”, в которой не-слитно сосуществуют,
наполняя её, несколько голосов
одновременно, даже в нём, - коррекция
касается не отдельного поступающего
персонажа, сколь ни был бы он
самостоятелен и достаточен сам по себе
как диалогический “поступок-ответ”, -коррекция
касается самого полифонического ряда,
“таковости” голосов и
членораздельности звучащих мелодий
этих голосов, если усиливать принятую
Бахтиным в своих работах о полифонизме
музыкальную терминологию. Ведь в
полифонизме само развитие, нарастание
“отдельной мелодии” голоса, глубоко
реалистично, и имеет ввиду не Бога
перед человеком, а человека перед
человеком же.
Мир полифонии,
как известно, “закорочен” на человеке, и
как реализм ( гиперреализм в других
блиц-определениях ) он является условием для
раскрытия человека к человеку в
полифонии, так и раскрытие человека в
человеке является условием реализма.
Именно поэтому в случае полифонизма
героев коррекция персонажа невозможна
– он сам себя “складывает” в
складывающихся “реальным образом”
обстоятельствах и отвечая за свои
поступки перед ними другим героям.
Европейский реализм, в котором
существует и полифонический роман,
безбожен “по-природе”, ещё со времён
Просвещения, как колыбели своей; таков
и герой этого романа в своей
окончательной состоятельности, - в
полифоническом романе. Но не на уровне
задаваемого реализмом героя полифонии,
а на уровне онтологического выбора
именно таких голосов, т.е. на уровне
всей полифонии в целом, такое
корректирующее смещение безусловно
проходит. Также как и в остальных
случаях, создавая духовно-достоверную
перспективу человеческого как
Богочеловеческого в человеке.
У Достоевского всем сразу же бросается в
глаза, при всей душевной
существенности и значительности,
выражаемых персонажами качеств, какая-то
их нереальность как раз, какая-то
неестественность человеческая, при
всём обнажении и заострении его
душевного существа. Как известно,
переступая монологическую реальность
отдельно взятого героя, автора или
читателя, в романах Достоевского
образуется реальное поле
существенного взаимообщения
персонажей, в котором каждый участвует
существенно и так, как только он
оказывается способен.
Эти
динамические способности
существенного в отдельном персонаже
складываются в убедительный голос ( по
существу реальности – реальности
душевной жизни), отдельный голос
персонажа, звучащий в общей полифонии
голосов романа, так что всё
несущественное оказывается “за кадром”,
оставляя в поле действия, общения и
диалога от персонажа один только
существенный его голос. Этим, в
частности, объясняется некоторая
неестественность, “вычурность”
действующих лиц. По отдельности это уже
не персонажи, а, скорее, отдельно
звучащие голосовые партии, их
конкретно-достоверная человеческая
существенность. Как таковой каждый из
них - Голос, а не персонаж. Персонажем,
собственно, он становится только в реальном
поле общения, диалога с другим
персонажем. Таков, примерно, взгляд на
полифонизм Достоевского по Бахтину. И
надо заметить, что для реалистического
европейского романа, как и для
реалистического мировоззрения вообще,
никакого Бога , которого бы явным
образом, как и самого себя, мог иметь
ввиду персонаж, нет.
В реализме “Бог” -
это либо одна из тем, либо одна из
возможностей, либо одно из “слов”, и т.п.
последствия новоевропейской истории и
истории становления нового, от Бога
независимого индивидуума. Но тогда то
начало явного определения Бога, то
понимание Бога, которое как-то должно
сказываться на поведении-выражении
персонажа с его человеческим
прототипом-образом, в случае
европейского реализма, перенимает на
себя он сам. И то реальное поле
взаимодействия , в котором каждый
раздельный голос становится
персонажем, поступающим ему присущим
достоверным образом, есть реальность
общения прежде всего. Это, а не что иное,
и заставляло исследователей Бахтина,
хотя и неуклюже, говорить о церкви-соборности,
в этом реальном взаимообщении
персонажей. Мы можем только
подчеркнуть, не столько
соборное (имелся ввиду полифонизм )
начало в возникающем существенном
общении, сколько реальность этого
общения для делающихся реальными в нём
персонажей.
Итак. – Никак не личного
Бога, и не раскрывающегося по отношению
к Нему персонажа Достоевский выводит к
реальному общению с миром, и не
человека вовсе, а ту или иную его часть, существенную
в реальном общении душевную
способность только. И, будучи погружена
в безвылозный и безвыходный мрак
реализма,( в котором человек судит себя
сам, и противостоит самому же себе), эта
способность, сила, страсть, единым
голосом звучащая в полифонизме других
голосов, вечно суждена вращаться в этом
нечеловеческом пространстве
осуществлённого общения, в реальности
диалога, возвращающей человеку его
человеческое – но не способной
возвратить окончательно. Романная
форма реализма и вечно будет
возвращать его к себе, к человеку. К
персонажу. К автору. К читателю.(Достаточно
вспомнить безначальность и неоконченность
полифонических романов Достоевского.)
Чтобы опять выйти
от себя, и опять вернуться к себе. Это и
есть пути реализма. И это не есть
подлинное становление человека, когда
он движется не только от себя, и не
только к другому, но когда он движется к
Богу и движим Богом сам. Так что - всегда
превосходящее его собственное
завершение реального и
действительного, - откровение Бога
является ему как тайна. И как тайна
Божия через человека, через других
людей, а не собственно-человеческое
участие в собственно-человеческих
планах и действиях других, как реальная
существенность, что рисует
полифонический реализм. Только образ
общения как такового, мы бы сказали
даже - “чистого, освещающего всё вокруг
общения”, общения-участия друг в друге,
и создаёт полифонизм Достоевского.
Этому основному, оставленному в
сохранности, элементу, принесены “в “жертву”
все остальные, “несущественные”,
моменты человеческого бытия.
И что же,
спросим мы, приподнимясь над темой:
обычное человеческое общество -
подсаживается на это бесконечное
колесо общения с самим собой, участия в
другом, как в самом
себе? Как бы не так. Если бы в
действительности человек мог
проявлять степень существенного
участия в другом, хотя бы сравнимую с
той насыщенностью участия друг в друге,
которую демонстрирует полифонизм
Достоевского, увиденный Бахтиным, он узнал бы живого Бога (и
стал бы в большой степени не
реалистический человек, попробуй его
хорошенько “раскусить” кто-нибудь из
тех, кто кусает при этом своё
собственное чувствующее тело). .Это
только романная модель выживания
реализма и только. В действительности
всех искусственно срезанных с человека
“несущественностей” оказывается
слишком много, и слишком много
окажется в них важного, - чтобы не
оставлять человека одного, вне Бога, -
чтобы со всеми силами своего одинокого,
дикого существа, человек не был бы
брошен на другого, которого в свою
очередь он не успевает даже хорошенько
рассмотреть…Что же касается коррекции
полифонического целого, для создания
вышеупомянутой достоверной
перспективы Человека, её нету в самом
романе в явном виде. Но она есть в
неявном виде, её делает читатель, автор
и каждый вступающий в диалог .персонаж.
Самим наличием себя, как носителей “такого”
диалога, такого соучастия, такой
полифонии. Как мы и сказали выше,
коррекции подвергается сама
полифоническая конструкция целиком.
Выбор голосов, надстройка их голосовой
конкретики и настройка их сюжетной
раздельности. Сам же итог, образ, в том
числе полифонического воздействия,
динамически меняющий положение,
становящийся, - духовно достоверен
тогда, когда в персонаже, за
взаимодействием лиц, видится
Богочеловек Иисус Христос, и поэтому
истинное учение о человеке. Этого ищет
любой художник, мастер достоверного.
Как же нам
относиться к “персонажу Бога”? Как к
персонажу или как к Богу,
стоящему за персонажем? –
Принимать условия искусства, что было
бы естественно и кажется единственно
возможным, или оставаться в экзистенциальных
условиях читателя, равно зависимого и
независимого от налагаемых на бытие
форм искусства ?
К Богу,
который один ( един) и который невозможно,
казалось бы, перетолковывать как угодно? А если это
насквозь неверный, выдуманный,
неправильный персонаж,
перетолковывание Его? Ответ прост
и находится в самой сущности
литературы, оживающей во время
считывания, движения, явления языка:
читать - все ответы найдутся в самом
действии. Акт чтения и есть подлинный
акт исследования искусства. В прото-человеческом
драматургическом действии, которое
постепенно выведет и расставит все
точки над i этого правильного-неправильного
Бога, этот персонаж Бога т.о. выразив.
Больше того. Акт чтение как
свободный акт становится как и любое
поступление попыткой бого-человеческого
совершения. Реализовав Богочеловеческую
достоверность в пьесе или не
реализовав. Ведь сам Персонаж( персонаж), а значит и
открытость, присутствие Бога,
выражается в действиях героя и никак
иначе. На это, а не на что-нибудь ещё и
нацелено авторское внимание. На героя.
В искусстве не может быть Бога, как
творца не способно создать его
собственное творение, однако в акте
чтения как полноценном человеческом
поступлении, взыскующем Слово,
присутствует богочеловеческая
вертикаль, и на неё, с неё созидается в
произведении человеческая
составляющая. Поэтому большинство духовно-достоверных
произведений создают
образ человека, рисуя, видя за этим
Богочеловека и богочеловеческую
свободу.
Но есть попытки не только
отчётливо-христианских представлений
Бога, но и христианских Прологов
к действию, которые, казалось бы,
драматургически жёстко
начинают или утверждать, навязывать, предание
церкви, или “по всему периметру”
переставлять его абсолютно на другую
почву. И “Фауст” Гёте безусловно к ним
относится. Лютеранская церковь и
принятое у лютеран свободное отношение
к Преданию церкви, в котором только и
возможно осторожно донести верные
акценты и духовную расстановку в
толковании Божественного Писания, при
этом не стоит сбрасывать со счетов.
Гёте как всякий поэт своего времени,
дитя своей эпохи, конца века ХVIII, поэтически
осваивал материал Писания, и в том
числе духовный материал, требующий для
себя известного адекватного
буквализма и личного церковного опыта.
Однако духовные обстоятельства
пост-лютеранской Германии и Веймара от
всего этого были достаточно отделены.
Так, в
Прологе
пьесы Гёте, вместо Бога и его места,
мы наблюдаем почти "пустое" пространство, это
никак "не нагружено". Поэтому ( и
потому что) и Человек и
Богочеловек отсутствуют. Т.е.
Богочеловек не понят как жизнь в
Боге,
нет! Зато – как только появляется
такое (уже данное природой, уже поданное
человеку) “богатство”, как жизнь – всё
взрывается! Жизнь – вот
здесь главнейшее! Это
замечено и в большинстве исследований
о образе Фауста Гёте. - Жизнь Фауста, которой чёрт
только “мешает”, да и то только чтобы Фауст
совершенствовался в своей
жизни! Жизнь природы, вбирающая Фауста
в своё лоно вместе с Мефистофелем,
чтобы меняться – ей, жизни, - а сами Фауст
с Мефистофелем, качаются словно пустые “бутыли” на её
капризно-величавой волне, одной из
миллиардов другихв этом бизвидном и
бессчётном океане её ритмически
организованного чувства...
Жизнь – вот
основной персонаж Гёте, то же самое - жизнь
природы, то же и - человеческая природа,
тоже - человек внутри стихии и проч.проч.
проч.от взгляда на эту стихию со
стороны, ведь со стороны на неё можно
смотреть только в Боге и со стороны Его
Богочеловеческой воли. Элиаде попробовал даже утверждать, что
Фауст почти что “обучается” у
Мефистофеля, что последний "расставляет" перед
Фаустом препятствия и сомнения (как
какой-нибудь педагог-психолог ) своим отрицанием жизни. А Фауст их
преодолевает таким образом…обязателен
их союз (!) Хотя, если он и живёт далее,
на наш
взгляд это больше похоже на выживание,
борьбу за существование, а не на свободное становление своей жизни. И, кстати,
с Гегелеским " снятием", "негацией"
предмета, Мефистофельское "жизнеотрицание"
не находит ничего общего, хотя многие
поклонники творчества великого поэта
возводили подобные воздушные мосты
единомыслия в общем великонемецком
духе. "Негации", снятию
подвергается в пьесе Гёте только
жизненная стихия сама по себе, вместе с
влекомыми ею персонажами и попутными
эпическими картинами, бесконечная и
самодвижущая. А не Фауст или кто-нибудь,
кто спобен или хочет преодолеть некое
"искушение" . В такой жизни-стихии
, снимаемой-самой в себе, и сам
Мефистофель такой же подневольный и
несвободный от неё "камешек", как и
Фауст. Гёте превращает своего
Мефистофеля в некоторого спец-слугу
Создателя, спеца по особым поручением
при полюбившемя ему "Фаусте",
дескать, вот "ешё один Иов у меня".
Но история с Иовом в Библии обязательно
имеет конец, наставительный финал и
поучающее, открывающее Бога зерно.
история же с Мефистофелем как будто
бесконечна, как сама жизнь, жизни-стихия
и бесконечная испытываемость и
"испытательность" в ней. Негде
остановиться - искушение, как сама
жизнь, бесконечно и беспросветно,
несвободно от сил, органически
опутавших и возобладавших над героем
Фаустом. Поэтому можно говорить что
бого-оставленность Гёте значительно
сильнее чем у Библейского Иова, хотя
и спасения, научения Слову он с самого
же начала не подразумевает.
Свободное
становление
категориально проходит в движении-отличении от самого себя. Но, к
становлению-отличению
природы и организма от самого себя
человек как волящее нравственное
существо никакого отношения не
имеет. Лист растёт, тело растёт, форма
изменяется в сущности тоже сама-по-
себе, человек
наблюдает ( и это Гёте ), но этим он не
становится собственно человеком. Человеком человек становится только
совершая подлинный выбор, и значит это
иная, нравственная природа, когда в нём
и он обнаруживается духовное действие; т.е.
человеком человек становится лишь во
Христе.
Пространство
природного организма, этих разного
рода психических инфлюэнций, не
способно собрать человека во единое
целое так, как способен собрать его Сам
Бог, и как человек может выбирать – а
может и не выбирать – самого Господа.
Вот Человек – он перед Богом. А не перед
природою, в которой он сразу же
пропадает и уносится ею чёрт знает куда.
Выбор именно жизни в качестве главного
лица и философского вопрошания - когда
она может быть и такой и сякой и третьей,
- уже выбор, просмотревший и человека и
Богочеловека и собственно то, что есть
ЖИЗНЬ человека, т.е. жизнь в Боге. Нельзя
из выбора разных “жизней” выбрать
жизнь во Христе. Ибо данная природой
человеку жизнь имеет природою же
обусловленное становление его
организма и только-то. Поэтому придётся
сначала найти Христа. Что уже значит
найти Человека и человека. Т.е.
вернуться назад, к “просмотренному”.
Практически весь европейский
атеизм в последние 2,3 столетия
присматривался к жизни и живому как к
первой и главной полноте. А ведь жизнь
собственно в природе человеку дана
итак, априори – но человек
провозглашает эту данность природы как
достаточное основание! Разумеется – но
для неё достаточное. причём, казалось
бы, здесь человек? Неужели ое только и
есть, что собственная природа – жить,
жить и жить?.. Но тем не менее он
провозглашает эту человеческую
природу основанием бытия. А ведь
собственно это и есть безБожие. Не
преступление и не грех перед Богом, нет.
А взгляд на человеческую природу как на
природу всего и вся.
дальше
|