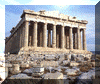|
1)
МИРЧА ЭЛИАДЕ И
ЕГО “МИФ О ВОССОЕДИНЕНИИ”( Москва, 1998,
Янус-К, “Азиатская алхимия”)
2.
Симпатична
ли "симпатия" Мефистофеля?
“Итак,
Мефисто, по замыслу Гёте, - это дух
отрицания, несогласия, опровержения и
сдерживающего сомнения. Последнее из
этих определений представляется самым
важным. Оно не ограничивает не только
функции Мефистофеля ( отрицание), но
даже направленности его деятельности.
Направленной, как на это обращает наше
внимание поэт, не против Господа, а
против жизни. Ибо, что же требует Мефистофель
у Фауста, дабы душа доктора навсегда
отошла под его власть? Чтобы он её удержал.
Мефисто – “Отец сомнений и помех”
стих 6205 ) Мефистофелевская, по
преимуществу, формула. это: “Остановись!”.
В тот же миг, как только он остановится,
душа Фауста будет потеряна, - надеется
Мефистофель. Но остановка не есть
отрицание создателя, но Жизни.
(38)
Мефисто, таким образом, противится
не непосредственно Творцу, а его
созданию. Вместо жизни он тщится
утвердить смерть; то. что более не
становится, что более не преобразуется
и никуда не устремляется, - разлагается,
исчезает.
(39)Такая
“смерть при жизни”(40)
влечёт за собой духовную стерильность:
состояние по преимуществу
демоническое. Человек, задушивший в
себе побеги жизни. искоренивший
творческий зародыш, подпадает под
власть духа отрицания. Преступление
перед жизнью, заключает Гёте, есть
преступление перед спасением.(41)
Не будем здесь отвлекаться на
рассмотрение того, в какой мере это
утверждение христианское.
(42)Двойственная
роль Мефистофеля со всей
определённостью выявляет одно: что он
всеми средствами противится жизни,
течению мирового потока. И своим
противлением расшевеливает жизнь.
(43)
Противоборствуя добру ( ибо жизнь –
главный противник Мефистофеля –
совпадает с добром), он приходит к тому.
что творит добро, как отмечал один из
современных комментаторов. Этот демон-отрицатель
одновременно является всё же самим
давнишним соавтором Творца. Потому-то
Господь в своём Божьем всезнании и даёт
его охотно в сотоварищи человеку.
Отметим пока. что Мефисто – принцип
отрицания и князь тьмы – будоражит жизнь,
организует творение и поддерживает
свет. Потом станет яснее экуменический
характер
(44)
этой концепции Гёте, которую многие
считают крайне субъективной и весьма
еретической.(45)
”
Далее
Элиаде приводит некоторые характерные
и важные ему выдержки из бесед и
дневников Гёте, о Фаусте.
“Самое
возвышенное занятие в том, чтобы
рассматривать разнообразие как
тождество; самое общее явление есть
деяние (всё), т.е. конкретное
объединение в тождественном того, что
разобщено ( его преобразование)” (
“Максимы и рефлексии”, 120)
Конечно,
деяние снимает разобщённость, но
снимает её и деятель, деяние
совершающий. Никакого преобразования
быть не может, ибо тут параллельные
категории. Что же касается “обобщения”
как основы – да, это основа всякого
наблюдения и опыта природы. Но этого “основоположения
наук” слишком мало для описания мира,
для миросознания. Между тем почти всё в
этих двух строчках Гёте о его
метафизике уже есть.
“Фундаментальная
особенность живого единства:
разъединяться, объединяться,
становиться всеобщим, оставаться
особенным…Рождаться и умирать,создавать
и разрушаться, рождение и смерть,
радость и боль – всё, переплетаясь,
действует в одном направлении и в той
же мере.” (там же.112)
Чудо
природы. наблюдаемое учёным в
микроскоп, это конечно бесконечная
подвижность. движение органического
бытия, органично превосходящего
механическое бытие. Именно это. т.е.
видимо-ощутимое превосходство над
простою механической его счётностью,
создаёт ту сильнейшую познавательную
настроенность,
которая отличает естествоиспытателя.
Он меряет, различает, сравнивает живую
ткань организма, многократно
превосходящую чистую раздельность
механизма . И уверен, что числа что-то о
ней говорят, тоже в числах. И это так. Но
природа и человеческая природа и есть
такой организм. Режьте его, смотрите на
особенное, восходите к всеобщему. Но
всё это или числа или чувства о
человеке. Человек есть природа
человеческая – вот весь глагол о нём,
всё постижение его. Сущность. Меж тем не
он к организму, а организм к нему должно
возводить и это мы видим в самой жизни.
Элиаде
наделяет Мефистофеля прямо-таки
педагогическими талантами ( вся ветвь
Гёте-Штейнер как раз этими дарами и “славилась”
), он-де противоборствует добру, что
стимулирует Фауста. Однако, тогда нужно
иметь такие благие цели самому Фаусту
– чтобы ему мог кто-то помешать? Как же
иначе? Но тогда он и сам должен
противиться Мефистофелю, если тот
действительно противится Фаусту. Если
один чего-то не хочет, значит первый
должен этого хотеть,- твоя школа,
Мефистофель? Но это уже чёрт-те знает
что. Какая-то казуистика, верх
эстетического жонглёрства и
небрежения к действительности. Но если
я чего-то не хочу, значит, уже есть
воление. возможность этого, есть воля.
Вообще, Фауст проходит на уровне пожеланий,
Мефистофель в нём на уровне не хочу,
а всемогущий Дух Природы, в котором
старается и жить Фауст, оставляет после
Фауста плоды зла. Вот и научение у
природы. У
своей природы.
А
между тем как странно понимается
диалектика! Сложили
противопроложности – и получите что
хотите – результат! Жизнь и отрицание
жизни приводит к новой жизни, по Элиаде.
Скорее, преодоление препятствий
говорит о борьбе за выживание, о борьбе
видов и т.п. теориях выживания живых
существ, к коим приравнивается человек.
Но если это действительная диалектика,
значит, это не чистые
противоположности, значит жизнь – это
некое в себе-замкнутое и волящее целое ?
Значит, эта жизнь должна отличиться от
самой себя. т.е. коснуться смерти, и
остаться при этом самой собою, жизнью,
только тогда это будет каким-то её
становлением. Становлением жизни.
Чудесно, но тогда это и есть
бесконечная, во времени и пространстве,
вселенная и такой же бесконечный
человеческий организм, ничего нового в
этой находке нет. А если называть новой
жизнью – всю эту перетекающую массу
организмов, эту обоюдную в старении-рождении
толчею мира, о которой так затоскавал
затерявшийся в её бесконечной ткани,
Будда, этот “страдающий” и
освободившийся от “страдания”
несколько тысячелетий тому назад
человек - и способность зафиксировать
какое-то движение в мире, становление.-
Это и будет той радостью
естествоиспытателя, о которой сказано
выше. В числах, на пальцах и понятно -
сказать обо всём- обо всём, обо всём.
Прочитывая “Фауста”,
мы специально сосредоточили наше
вниманье на части, связанной с
Маргаритой. И всячески выделили её.(46)
Линия Фауста, итак видимая всем и
видимая всеми критиками всегда, также
не могла не выделиться. Но, вместе с
линией Гретхэн пьеса получает ту самую
“вертикаль”. В которой является
человек, т.е. именно человек, свободно
совершающий то, что хочет. Совершающий
свободно в Боге и свободно от
Мефистофеля, от всех этих
противоречащих человеку слуг “разнообразной
жизни”. В этой свободе Гретхэн, на
чистом листе этой свободы – мы увидели
конкретные плоды зла, оставляемые
Фаустом. Они есть. Они лежат там и
приводят Гретхэн к гибели - на “горизонтали
Фауста” – а не в “вертикали Гретхэн”,
разумеется. Отчего, скажите отчего все
эти конструкторы педагогических
единств “Бога и Мефистофеля”, не видят
их? Как там говорит о гибнущей
Маргарите Мефистофель: “ Не она первая.”
Это он для
них
получается, произносит, так что ли?.
Если
мы будем иметь вертикаль, (т.е. человека)
Гретхэн, то становление её, и развитие
действия предстанет тем, как
становится человек.. Но если мы
будем иметь горизонталь ( жизнь Фауста,
а именно ту жизнь, которая открывается
ему в “Всемогущим Духом Природы” в
кабинете, а впоследствии в лесной пеще-
ре), становление и развитие действия
останется жизнью человека. И
поэтому станет видимой эта разность. Человека,
становящегося таковым (человеком)
как жизнь (Бого- человеком), и жизнь
тогда - действительное его становление.
И с другой стороны, жизнь, в которой
лишь как-то участвует, растворён Фауст (
Природа гонит его взашей, в качестве
хоть какого-то оправдания и свободы
образующегося у него “природного я”
оставляя лишь дух, эту природу
отрицающий ).
По
Элиаде дух отрицания – это
настройка на получение опыта. Это
препятствие, к осуществлению,
требующее постановки в виде задачи и
решения. Но Элиаде не приводит ни
одного примера своим громким
высказываниям. Он голословен. В пьесе
мы не увидим никакого качества опыта в
Фаусте. Никакого преодоления отрицания
и собственно Фаустовского
позитивного решения ситуации.
Мефистофель в пьесе, а мы говорим всё-таки
о ней, а не о том, что усмотрел-неусмотрел
в ней Элиаде, это и не логическое
отрицание, если бы он без конца
противоречил Фаусту.
Тогда бы было чему противоречить, т.е.
некое самостоятельное высказывание
Фауста сначала. Это и ни соперник
Фаусту, - у него то уж точнейшие цели,
если по жизни он вызывается провести
Фауста как по самому себе, показав все
малейшие её уголки, тогда как Фауст
этого и хочет – качественного
разнообразия. Это и ни противник самой
жизни – угасание и смерть природы, ибо
в природе там, где есть угасание и
смерть сразу же представлены рождение
и развитие нового. Вряд ли его можно
связывать и со смертью человеческой.
ибо переход атеиста в вертикальный
план сулит человеку прозрение,
прозревание. А зачем это Мефистофелю?
Остаётся одно, на чём его образ и
удерживается в пьесе. Сохраняя
достоверность действия. Остаётся дух
отрицания воли человеческой.
Вот эта неспособность подействовать
самому Фаусту, постоянное его болтание
за Мефистофелем, до полной потери лица,
и есть начало Мефистофеля. Началом же
всего остаётся сам Фауст, человек,
выбравший в самом начале тот Дух жизни (
который и открывается ему во
всемогуществе в тиши кабинета Фауста),
которым он хочет жить. Вот его выбор.
И этот Дух природы начинает
властвовать в Фаусте. Единственное. что
приходится этому Духу жизни
преодолевать в своей всерождающейся и
бесконечно-живой материи. так это
Мефистофель в Фаусте, дух отрицания - и
действительно, только Мефистофель –
вот всё, что остаётся похожего на
человека в Фаусте, устремлённого к
этому Духу . Мы достаточно показали, что
бесконечный диалог Фауста и
Мефистофелем не переходит в общение
хотя бы трёх лиц; этот диалог сквозной,
поэтому Мефистофель есть внутреннее,
внутренний демон, дух, как угодно. Но
Дух природы, природа, овладевающая
Фаустом - показана как раз как действие
извне. Ибо она полностью подчиняет
этого человека его себе. Поэтому, а не
почему-то другому, мы говорим о том, что
сей Дух жизни настолько подчинил
Фауста себе, что единственный голос,
который он слышит, есть голос
Мефистофеля. Следование за которым и
есть та единственная свобода,
оставленная Фаусту в этом Духе жизни:
свобода делать злое.
Но
вернёмся теперь к выводам Элиаде. Из
того, как он приходит к своим выводам,
видно достаточно хорошо, что здесь ему
важна своя собственная концепция, от “Фауста”
же ему существенна вот эта взаимная
симпатия “Бога” и “Фауста” в Прологе
пьесы, которую он рассматривает как
взаимную необходимость
противоположностей друг в друге, в
формулировке “необходимость друг в
друге жизни и смерти”. Но по-существу у
него имеется лишь этот один,
развивающийся термин – “жизнь”: как
нечто , вне смерти данное сразу же. И
хотя “жизнь” подозревается автором в
качестве первично-пассивного начала,
активным делает её отрицающее начало “смерти”(
поэтому и “Бог” как будто выступает в
качестве такого первичного
моделирующего развитие ситуации “механизма”,
сам “проявляясь” только в качестве “сопротивления
материалов” через Мефистофеля ),мы
легко узнаём за всем этим
биологическую жизнь с её эволюцией,
выживанием и совершенствованием, в
результате закрепления способствующих
победе навыков, сильнейшего, как
образцом совершенства как такового, т.е.
ценностью. Что делать, такова эпоха. Та
– и эта. Отсюда же мы отчётливо
замечаем круг вопросов, вовсе
незамеченный Гёте, это вопросы
онтологические о “жизни”, “что такое
жизнь по-существу?” позволяющие как-то
от этого термина уйти к другим “терминам”
и взглянуть со стороны. Вопросы к тому
ответу, который слышится в полном
перечёркивании “жизни” “смертью”, т.е.
“духовная жизнь ни в каком роде не
берётся на вес. ”Жизнь” Фауста всегда
ему дана, предоставлена, он включён в
неё. Естественно, что персонаж “Бога”,
появляющийся в Прологе пьесы, никаких
собственно “Божественных”, присущих
Богу качеств, в такой “прикладной”,
подчинённой “жизни” позиции, показать
не может. Поэтому Элиаде
оказывается прав – по сравнению с
живым явлением природы, данным образно,
во встрече с разными персонажами и даже
аллегориями и т. п. - Бог и Мефистофель
со своей “взаимной симпатией” кажутся
механизмом, моделью, приёмом, т.е. чем-то
менее “живым”, чем первое.
Однако,
Элиаде, как и Фауст, пробуя понять тот
же самый, открывшийся этому герою в
кабинете, могущественный Дух,
расскажет нам о нём довольно много
интересного. О том, что стало известно о
нём в культуре и истории культуры за
прошедшие со времени Гёте два столетия
– культура опознает в этом Духе
древнейшее и известнейшее всем в
древности начало. В этом Мирча Элиаде
подлинно в своей стихии, чего нельзя
сказать о “законченной” европейской
культуре нового времени, где ему не
очень уютно, тесновато.
Примечания
(38) Нам тут многое непонятно.
Мы долго и внимательно читали пьесу и
проследили, как Фауст практически
всюду таскался вслед за Мефистофелем (
все сцены. и шабаш, единственное, куда
неохотно доставил Фауста Мефистофель,
это тюрьма его любимой), зато, “благодаря”
умелости своего спутника, всё зло
совершено его собственной рукой Фауста.
Так что жизнь ему выбирал Мефистофель.
А вот злые плоды, оставляемые Фаустом
на своём пути – о них как-то все и
забыли. И герой, и Гёте, и Элиаде. Так,
издержки жизни, “ этапы большого пути
её.”? Но “не увидели их” по причине
того, что просто не считают их “злыми”,
во всяком случае, если и заметил кто,
это А нужен всем так называемый “реальный”
взгляд на них…
(39)
Элиаде полагает, что Фауст волен убить
себя, и лишить жизни тем самым - сам? Без
чёртовой помощи?Т.е. этот акт,
совершаемый в состоянии крайней
богооставленности, очевидно, -
совершается и в оставленности тёмной
силой также? Не попался ли сам Гёте со
своим Вертером на ту же удочку… А ведь
этот строй мысли весь только от того,
что за горизонтом этой жизни они видят
один лишь распад её же, одно лишь ничто,
которое “более не становится”, и “никуда
не устремляется…”, по Элиаде. Они
видят могилу. Духовное становление
человека и устремление в Духе
Христовом, вещи слишком незнакомые. А
ведь это как раз то, что здешний порядок
бытия лишь ограничивает. Вмещает лишь
постольку поскольку.
(40)
именно нарисован могильный холм при
окружающей жизни весны, природы, в
пенье птиц, - т.е. могила на кладбище.
(41)
Переспросим, -спасением от чего? Видимо,
спасение само по себе, а жизнь сама по
себе. Пришёл Бог и спас. Как же, Фауст –
человек ищущий. правда уничтожил двух
не в чём не повинных людей своею рукой,
но на пути уничтожил, правда, в борении,
в котором всегда проигрывал, но на
путях уничтожил…А теперь только
представьте, о чём единственно все они
хотят сказать : Человек призван
воплощать в жизнь высокие идеалы! И вот
как они об этом говорят. ( Как воплощают
это сами!
)
(42)
Неважно это всегда только в одном
случае - когда христианские положения о
боге и мире не становятся личными для
автора. Чтож, не хотим выглядеть
иезуитами, однако, не религиоведческим
же выбором и своим собственным
установлением – и кого – Бога! –
заниматься.
(43)
Жизнь сердца, жизнь чувства – не он ли
даёт выпить Фаусту в кухне ведьмы,
после чего тот видит прекрасную Елену в
зазеркалье? Не он ли 10 месяцев помогает
Фаусту в связях того с возлюбленной? Не
он ли. устраивает экскурсию на шабаш в
целях познания и участия в нём самого
героя ? Не он ли помогает своей шпагой
Фаусту, чтобы того не заколол Валентин?
Но примеров тут тысячи…достаточно ли?
Так какой же жизни Мефистофель
сопротивляется? А расшевеливание жизни,
- это когда грех рождается на свет, так
что-ли?
(44)Не
пугайтесь, просто Элиаде пойдёт “бродить
и нырять” в архаические культы и
практики.
(45) Не
знаем, можно ли квалифицировать как
ересь то вовсе внецерковное
умонастроение, очевидно не способное
увлечь за собой часть церкви без потери
самой веры, каковым предстаёт перед
нами призыв к общегуманистическому
идеалу со всеми его переборками. На наш
взгляд и нельзя и невозможно.
(46)
Чего мало, вообще говоря, кто делает.
Умиляются, как Фауст, “деточкой”.
Ругают Мефистофеля, как опять же Фауст,
Но в общем относятся к ней небрежно. Как
Мефистофель. Помните, как он осклабился
после допроса, учинённого Маргаритой
Фаусту, о том, верит ли тот? Ребёнок со
своей чистотою агитирует многомудрого
и опытного мужа? А так ли уж,кстати, и
многомудрого ? Это отдельная тема – не
только отсутствия мудрости, но именно
глуповатости Фауста, странной даже для
кабинетного учёного. Размытость границ
своих до потери человеческого лица и
чести во время пусть даже очень сильной
влюблённости, сильно похотливой
влюблённости, ужасает в этом опытном
муже.
назад
дальше |