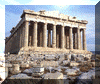"РАННИЕ ДИАЛОГИ
ПЛАТОНА И СОЧИНЕНИЯ ПЛАТОНОВСКОЙ ШКОЛЫ."
(изд."Мысль". Философское Наследие. Том 98.)
ХАРМИД
(начало)
Сократ
Вернулся я
вчера вечером из лагеря под Потидеей, и так как я долго
отсутствовал, то с радостью пошел к привычным местам бесед.
Зашел я также в палестру Посейдона Таврия, что напротив царского
храма, и застал там много народу — некоторые из них были мне
незнакомы, большинство же известны. И как только завидели они
меня, неожиданно вошедшего, тотчас же прямо издалека и со всех
сторон стали меня приветствовать.
A
Херефонт с присущей ему восторженностью, вырвавшись вперед,
подбежал ко мне и, схватив за руку, воскликнул: «Сократ мой, так
ты уцелел в битве?!» (В самом деле, незадолго до моего отбытия
из Потидеи там произошла битва, о которой собравшиеся здесь
узнали лишь недавно.) А я ему в ответ: «Как видишь, уцелел».
— Да ведь сюда дошли вести,— сказал
он,— что с битва была очень жестокой и в ней пали многие люди,
которых мы знаем.
— Пожалуй,— отвечал я,— это правдивые
вести.
— Значит,— спросил он,— ты участвовал
в битве?
— Участвовал.
— Садись же сюда,— сказал он,— и
расскажи нам: ведь не обо всем мы точно осведомлены.
С этими словами он усадил меня подле
Крития, сына Каллесхра. Сев рядом, я приветствовал Крития и
остальных и стал рассказывать им о войске все, что каждого
интересовало; вопросы же сыпались со всех сторон.
А когда мы вдоволь наговорились об
этом, я в свою очередь стал расспрашивать их о здешних делах: о
философии — в каком она сейчас состоянии, и о молодежи — есть ли
среди них кто-либо, выдающийся своим разумом, красотой или тем и
другим вместе. В это мгновение
Критий, оглянувшись на дверь и увидев нескольких входящих
юношей, шумно споривших между собою, и следующую за ними толпу
людей, сказал:
— Что касается красивых, Сократ, ты
тотчас же, кажется мне, это узнаешь: ведь входящие сейчас сюда
как раз и являются поклонниками и глашатаями того, кто ныне
слывет самым красивым; мне представляется, что он и сам вот-вот
подойдет.
— А кто это и чей он сын? — спросил
я.
— Ты его, в общем-то, знаешь,—
отвечал он,— но до твоего отъезда он был еще недостаточно
взрослым: это Хармид, сын Главкона 5, моего дяди, и
мой двоюродный брат.
— Да, я его знаю, клянусь Зевсом,—
сказал я.— Он был недурен и тогда еще, маленьким мальчиком,
теперь же, думаю, он уже совсем повзрослел и стал юношей.
— Вот сейчас ты увидишь,— сказал
Критий,— и насколько он вырос и каков он собою.
И при этих его словах вошел сам
Хармид.
Я-то, мой друг, здесь совсем не
судья: в вопросах красоты я совершенный неуч, почти все юноши в
поре возмужалости кажутся мне красивыми. И все же он мне
представился тогда на диво прекрасным и статным, и показалось,
что все остальные в него влюблены — так с они были поражены и
взволнованы в момент его появления; многие же другие поклонники
следовали за ним.
Со стороны нас, мужчин, это было менее удивительно, но я
наблюдал и за мальчиками, и никто из них, даже из самых младших,
не смотрел более никуда, но все созерцали его, словно некое
изваяние.
Тогда Херефонт, обратившись ко мне,
сказал:
— Как нравится тебе юноша, мой
Сократ? Разве лицо его не прекрасно?
— Необыкновенно прекрасно,— отвечал
я.
— А захоти он снять с себя одежды, ты
и не заметил бы его лица — настолько весь облик его совершенен.
И все согласились в этом с Херефонтом. Я же сказал:
— Геракл свидетель, вы справедливо
называете его неотразимым! Если бы только ему было присуще еще
нечто совсем небольшое.
— Что же это? — спросил Критий.
— Если бы он от природы обладал
достойной душою. А ведь именно таким ему подобает быть, Критий,
раз он принадлежит к твоему семейству.
— Но,— возразил Критий,— и в этом
отношении он в высшей степени достойный человек 7.
— Так почему же нам,— спросил я,— не
снять одежды именно с этой его части и не предаться ее
созерцанию · прежде, чем созерцанию его внешности? Во всяком
случае, в таком возрасте он уже готов к собеседованиям.
— И даже очень,— отозвался Критий.—
Ведь он и философ, а также, как кажется и другим, и ему
самому, обладает большим поэтическим даром 9.
— Этот прекрасный дар, милый Критий,—
сказал я,— присущ вам всем издавна благодаря родству вашему с
Солоном. Но почему ты не представишь мне юношу, подозвавши его
сюда? Ведь даже если бы он был еще моложе, для него не было бы
ничего зазорного в том, чтобы беседовать с нами в твоем
присутствии: ты одновременно и родственник его и опекун.
— Это правильно сказано,— откликнулся
он.— Позовем же его.
И, повернувшись к своему прислужнику,
он приказал: «Мальчик, позови Хармида да скажи ему, что я
желаю показать его врачу по поводу той болезни, которой, как он
совсем недавно говорил, он страдает». Мне же Критий сказал:
— Давеча он мне говорил, что мучается
головной болыо, когда поднимается ото сна с зарею. Тебе ничего
не стоит притвориться, будто ты знаешь средство от головной
боли.
— Это я могу,— отвечал я.— Пусть
только подойдет.
— Сейчас! — сказал Критий.
Так и произошло. Хармид
подошел и вызвал громкий смех, ибо каждый из нас, сидящих,
освобождая для с
него место, хорошенько потеснил своего соседа — чтобы оказаться
сидящим рядом с ним,— пока мы не заставили встать одного из
сидевших с края и не сбросили на землю другого. Хармид же,
подойдя, сел между мной и Критием. И уже с этого мгновения,
милый друг, мною
овладело смущение и разом исчезла та отвага, с которой я
намеревался столь легко провести с ним беседу. Когда же после
слов Крития, что я знаток необходимого ему средства, он бросил
на меня невыразимый взгляд и
сделал движение, как бы
намереваясь обратиться ко мне с вопросом, а все собравшиеся в
палестре обступили нас тесным кругом,— тогда, благородный мой
друг, я узрел то, что скрывалось у него под верхней одеждой, и
меня охватил пламень: я был вне себя и подумал, что
в любовных делах мудрейший поэт — Кидий, советовавший
кому-то по поводу встречи с прекрасным мальчиком «остерегаться,
выйдя», олененку подобно, «навстречу льву, разделить удел
жертвенного мяса» : ведь мне показалось, что я и сам
раздираем на части таким чудовищем.
Однако, когда он спросил меня, знаю
ли я средство от головной боли, я, хоть и с трудом, выдавил из
себя, что знаю.
— И какое это,— спросил он,—
средство? Я отвечал, что это некая травка, но к ней надо
добавлять определенный заговор, если же принять ее без этого
заговора, то от травки не будет пользы. А он мне на это:
— Так я спишу у тебя этот заговор.
— В том случае,— сказал я,— если ты
мне поверишь или даже без этого? А он, рассмеявшись:
— Разумеется, если поверю, Сократ.
— Что ж, пусть будет так,— сказал я.—
И ты уверен, что мое имя — Сократ?
— Если не ошибаюсь: ведь о тебе
немало разговоров идет среди моих сверстников, да и с детских
лет, как припоминаю, я видел тебя в обществе нашего Крития.
— А, это хорошо,— сказал я-— Тем
более смело расскажу я тебе о заговоре — в чем он состоит. А то
раньше я недоумевал, каким образом сумею доказать тебе его силу.
Заговор же этот таков, что с его помощью нельзя излечить одну
только голову, но как, быть может, и ты слыхивал о хороших
врачах — когда кто-нибудь приходит к ним с глазной болью, они
говорят, что напрасно пытаться излечить одни только глаза, но
необходимо, если только больной хочет привести в порядок глаза,
подлечить одновременно и голову, точно так же совершенно
бессмысленно думать, будто можно излечить каким-то образом
голову саму по себе, не вылечив все тело в целом. На этом
основании с помощью
должных предписаний для всего тела они стараются излечить часть
одновременно с целым. Или ты не слыхал, что об этом так говорят
и именно так обстоит дело?
— Нет, конечно, слыхал,— отвечал он.
— Значит, тебе это представляется
верным, и ты это одобряешь?
— Несомненно,— отвечал он.
A я, почувствовав его
одобрение, воспрянул духом,
и вскоре ко мне вернулась моя отвага; я оживился и
сказал:
— Итак, мой Хармид, подобным же
образом обстоит
дело и с этим заговором. Научился же я ему, когда нахо-
дился там, при войске, у некоего фракийского врача из
учеников Залмоксида: считается, что врачи эти дают
людям бессмертие. Так вот, фракиец этот говорил,
будто эллинские врачи правильно передают то, что я
тебе сейчас поведал; но Залмоксид, сказал он, наш царь,
будучи богом, говорит: «Как не следует пытаться лечить
глаза отдельно от головы и голову — отдельно от тела,
так не следует и лечить тело, не леча душу, и у эллин-
ских врачей именно тогда бывают неудачи при лечении
многих болезней, когда они не признают необходимости
заботиться о целом, а между тем если целое в плохом
состоянии, то и часть не может быть в порядке. Ибо,—
говорит он,— всё — и хорошее и плохое — порождается
в теле и во всем человеке душою, и именно из нее все
проистекает, точно так же как в глазах все проистекает
157 от головы. Потому-то и надо прежде всего и преиму-
щественно лечить душу, если хочешь, чтобы и голова и
все остальное тело хорошо себя чувствовали. Лечить же
душу, дорогой мой, должно известными заклинаниями,
последние же представляют собой не что иное, как вер-
ные речи 14: от этих речей в душе укореняется
рассуди-
тельность, а ее укоренение и присутствие облегчают
внедрение здоровья и в области головы и в области всего тела».
Так он наставлял меня и относительно лекарства
и относительно заговоров: мол, пусть никто не вздумает
убеждать тебя излечить ему голову с помощью этого
лекарства, если он прежде не даст тебе подлечить с по-
мощью заговора его душу. «Ныне,— сказал он,— рас-
пространенной среди людей ошибкой является попытка
некоторых из них лечить либо одним из этих средств,
либо другим». И он наказывал весьма настойчиво, чтобы
я не поддавался на уговоры ни богатых людей, ни знатных,
ни красивых и не поступал бы вопреки этому нас ставлению.
Я же послушаюсь его (ведь я поклялся ему,
так что мне необходимо повиноваться!), и если ты
пожелаешь, согласно наставлениям чужеземца, сначала
предоставить мне душу, чтобы заговорить ее заговором
фракийца, то я присовокуплю к этому и лекарство для
головы; если же не пожелаешь, то у меня нет средства
помочь тебе, мой милый Хармид.
Критий, услышав эти мои слова,
воскликнул:
— Мой Сократ, головная боль была бы
для юноши
истинным даром Гермеса, если бы она вынудила его
ради головы усовершенствовать и свой разум. Скажу
тебе, однако, что Хармид отличается от своих сверстни-
ков не только своим внешним обликом, но и тем самым,
ради чего нужен, по твоим словам, твой заговор: ведь
заговор этот служит приобретению рассудительности,
не так ли?
— Именно так,— отвечал я.
— Так будь уверен,— возразил он,— что
он кажется
намного рассудительнее, чем юноши нашего времени;
да и в отношении всех остальных
качеств, коими бывает
наделен его возраст, он ничуть не хуже других.
— Это и справедливо, Хармид,—
отозвался я,—
чтобы ты отличался всем этим от других: думаю, никто е
из присутствующих здесь не смог бы легко указать,
какие два афинских семейства, соединившись, естест-
венно произвели бы на свет более доблестное и знатное
потомство, чем те, из которых ты происходишь. Ведь
по отцу твоя семья ведет свой род от Крития, сына Дро-
пида, и прославлена Анакреонтом, Солоном 16 и мно-
гими другими поэтами (так гласит предание) за свою
красоту, добродетель и другие так называемые дары
богов. И со стороны матери у тебя то же самое: никто
на земле не слывет более красивым и статным мужем,
чем дядя твой Пириламп, многократно ездивший по-
слом к Великому царю и другим правителям; да и вся
семья ни в чем не уступает никакому другому роду.
Поэтому тебе, происходящему от таких людей, подобает
во всем быть первым. Что касается твоего внешнего ь
вида, милый сын Главкона, то мне кажется, ты реши-
тельно никому ни в чем не уступаешь; если же ты, как
говорит нам Критий, уродился достойным человеком
и по своей рассудительности и в отношении других
своих качеств, то счастливцем родила тебя твоя мать,
мой милый Хармид. Дело обстоит вот каким образом:
если тебе уже присуща рассудительность, как сказал
Критий, и ты достаточно разумен, ты не нуждаешься
в этом случае ни в каком заговоре — ни в Залмоксидо-
вом, ни в том, какой есть у Абариса-гиперборейца,
но нужно просто дать тебе лекарство от головы; если
же тебе кажется, что ты нуждаешься в заговорах, то
надо произнести заговор до приема лекарства. Скажи
же мне сам, согласен ли ты с Критием в том, что ты уже
причастен рассудительности, или тебе ее все-таки недо-
стает?
Хармид сначала покраснел и показался
еще прекрас-
нее: застенчивость подобала его возрасту. А затем он
ответил не без достоинства, сказав, что нелегко в подоб-
ных обстоятельствах как выразить согласие, так и дать
отрицательный ответ.
— Ведь если,— сказал он,— я не
соглашусь с тем,
что я рассудителен, то одновременно будет и странным
говорить так о самом себе, и окажется, что я выставлю
лжецами как Крития, так и многих других, кому я ка-
жусь рассудительным, по его словам; если же, с другой
стороны, я дам утвердительный ответ и превознесу са-
мого себя, то это, возможно, покажется дерзким, так что
мне трудно тебе ответить.
Я же на это:
— Ты говоришь дело, Хармид. И мне
кажется,—
продолжал я,— что нам надо вместе рассмотреть, обла-
даешь ли ты свойством, которое меня интересует, или
с нет, дабы и ты не был вынужден говорить то, чего не
желаешь, и мне не пришлось бы бездумно взяться за
лечение. Итак, если тебе угодно, я хочу рассмотреть
это вместе с тобою; если же нет, давай это оставим.
— Но мне это в высшей степени
желанно, поэтому
рассмотри вопрос таким способом, какой представля-
ется тебе самому наилучшим.
— Мне представляется наилучшим такой
способ
рассмотрения: ведь ясно, что, если тебе свойственна рас-
судительность, у тебя должно быть насчет нее свое мне-
ние. Она необходимо должна, если только она тебе при-
суща, возбуждать у тебя определенное ощущение, из
которого у тебя возникало бы о ней некое мнение — что
такое эта рассудительность и каковы ее свойства? Или
ты иного мнения?
— Нет, я думаю именно так.
— Ну,— продолжал я,— если только ты
владеешь
эллинской речью, то ведь сможешь нам сказать, что ты
об этом думаешь и чем именно она тебе представля-
ется?
— Возможно,— отвечал он.
— Для того чтобы мы могли установить,
присуща
тебе рассудительность или нет, скажи,— продолжал
я,— что называешь ты, согласно твоему мнению, этим
именем?
Но он сначала заколебался и не
склонен был отве-
чать. Затем, однако, сказал, что рассудительностью
кажется ему умение все делать, соблюдая порядок и
не спеша,— в пути, и в рассуждениях, и во всем осталь-
ном также. «Мне кажется,— добавил он,— что в целом
то, о чем ты спрашиваешь, можно определить как некую
осмотрительность».
— И ты считаешь, что ты прав? —
спросил я.—
Впрочем, Хармид, действительно говорят, что осмотри-
тельные люди рассудительны. Посмотрим же, дельны ли
эти речи. Скажи мне, разве рассудительность не при- с
надлежит к прекрасным вещам?
— Разумеется,— отвечал он.
— А какое свойство является более
прекрасным
для учителя грамматики — писать соответствующие
буквы 19 быстро или медленно?
— Быстро.
— А читать? Быстро или медленно?
— Быстро.
— А быстро играть на кифаре и
стремительно побеждать в борьбе ведь прекраснее, чем делать то
же самое спокойно и медленно?
— Да.
— Ну а когда бьешься на кулаках или
участвуешь в многоборье, разве дело обстоит не таким же образом?
— Несомненно.
— А в беге и прыжках и во всех
остальных телесных упражнениях разве не присуще прекрасному все
то, что совершается стремительно и быстро, а постыдному — то,
что делается медленно и с трудом?
— Это очевидно.
— Значит, для нас очевидно,— сказал
я,— что в отношении тела самым прекрасным является не
осмотрительность, но высокая скорость и стремительность. Или это
не так?
— Несомненно, так.
— Ну а рассудительность была у нас
чем-то прекрасным?
— Да.
— Значит, что касается тела, не
осмотрительность, но скорость была бы более разумной, поскольку
рассудительность — это нечто прекрасное?
— Похоже, что так,— отвечал он.
e
— Далее,— сказал я,— что лучше: понятливость
или тупость?
— Понятливость.
— А понятливость
является ли способностью пони-
мать быстро, в то время как тупость означает замедлен-
ное понимание?
— Да.
— А что неизмеримо прекраснее:
обучить другого быстро и решительно или же медленно и
постепенно?
— Быстро,— отвечал он,— и решительно.
— Далее, припоминать и запоминать
лучше медленно и постепенно или решительно и быстро?
— Решительно и быстро,— отвечал он.
— И находчивость является некоей
стремительностью души, а вовсе не ее медлительностью?
— Это правда.
— Так не сводится ли все сказанное —
об учителе грамматики, кифаристе или любом другом мастере — к
тому, что наилучшим является самое быстрое, а не самое
медленное?
— Это так.
— Ну а при душевных поисках и
размышлениях, думаю я, достойным похвалы оказывается не самый
медлительный, с трудом соображающий и находящий решение человек,
но тот, кто это решение усматривает быстрее и легче всех.
— Да, это так,— сказал он.
— И разве, Хармид,— спросил я,— все,
что касается тела и души, не представляется нам более
прекрасным, если ему свойственны стремительность и скорость, а
не медлительность и осмотрительность?
— Видимо, это так,— отвечал он.
— Следовательно, рассудительность не
может быть
осмотрительностью, и рассудительная жизнь — не осмо-
трительная, если верить этому рассуждению: ведь, со-
гласно ему, рассудительная жизнь
должна быть пре-
красной. Нам показалось одно из двух: либо осторож-
ные действия в жизни вообще менее прекрасны, либо
только в очень немногих случаях более прекрасны, чем
быстрые и решительные. Если же, мой друг, осторож-
ные действия большей частью оказываются ничуть не
прекраснее, чем напористые и быстрые, то рассудитель-
ность будет не более заключаться в осторожных действиях,
чем в решительных и быстрых,— идет ли речь
о походке, словах или о чем-либо ином — и осторож-
ная жизнь не будет рассудительнее неосторожной, коль
скоро мы предположили в нашем рассуждении, что
рассудительность — это нечто прекрасное, быстрое же
оказалось не менее прекрасным, чем медленное.
— Мне кажется, Сократ,— сказал Хармид,—
что
ты молвил правду.
— Итак, Хармид,— сказал я,— если ты
вновь как
следует вдумаешься в сказанное, бросив взгляд на са-
мого себя, и представишь себе, каким именно делает
тебя свойственная тебе рассудительность, то, взвесив
все это, ты сможешь смело и точно определить, что же о
она собой представляет.
А он, чуть-чуть помедлив, а затем
вполне мужественно оценив себя, молвил:
— Теперь мне кажется, что
рассудительность делает
человека стыдливым и скромным и что она то же самое,
что стыдливость.
— Пойдем дальше,— сказал я.— Ведь
перед этим
ты согласился, что рассудительность — это нечто пре-
красное?
— Конечно,— отвечал он.
— Но разве люди рассудительные — это
одновременно не хорошие люди?
— Да, хорошие.
— А разве может быть хорошим то, что
не делает
людей хорошими?
— Конечно, нет.
— Следовательно, рассудительность —
это не только
прекрасная, но и благая вещь.
— Мне кажется, это так.
— Что ж,— продолжал я,— веришь ли ты,
будто
Гомер удачно изрек эти слова:
Не подобает тому, кто
в нужде, быть стыдливым 20.
— Верю.
— Похоже, следовательно, что
стыдливость — это
благо и одновременно не благо?
— Да, очевидно.
— Но ведь рассудительность — это
благо, если она
делает хорошими, а не плохими тех, кому она присуща.
— Да, мне кажется, дело обстоит
именно так, как
ты говоришь.
— Значит, рассудительность — это не
стыдливость,
ь коль скоро она — благо, стыдливость же оказывается
не более благом, чем злом.
—· Мне, Сократ,— возразил он,—
представляется
все это верно сказанным. Однако как бы ты отнесся к та-
кому мнению о рассудительности: только что я вспом-
нил, что слыхал от кого-то, будто рассудительность —
это [умение] «заниматься своим». Посмотри же, пра-
вильным ли тебе покажется изречение того, кто это ска-
зал.
А я на это:
— Ах ты, плут! Ведь ты слыхал это от
нашего Кри-
с тия или кого-то другого из мудрецов!
— Видно,— вмешался Критий,— это
чьи-то чужие
слова: я их не произносил.
— Но, мой Сократ,— возразил на это
Хармид, —
какая разница, от кого я это слыхал?
— Никакой,— отвечал я.— Во всяком
случае, рас-
смотреть надлежит не кто это сказал, но истинны эти
слова или нет.
— Это ты правильно говоришь,— молвил
он.
— Клянусь Зевсом! — воскликнул тут
я.— Будет
удивительно, если мы здесь к чему-то придем: ведь слова
эти напоминают загадку.
— Почему же? — спросил он.
— Да потому, что тот, кто сказал, будто
рассуди-
тельность — это умение «заниматься своим», подра-
зумевал не то, что произнес вслух. Или, по-твоему, когда
учитель грамматики пишет либо читает, он ничем не
занимается?
— Нет, я думаю, наоборот, что он
занимается чем-
то,— отвечал Хармид.
— Так что же, тебе кажется, будто
учитель грам-
матики пишет и читает лишь свое имя и лишь этому
учит вас, мальчиков, или вы точно так же писали имена
своих врагов, как и свои собственные и своих друзей?
— Точно так же.
— Значит, занимаясь этим, вы делали
много лиш-
е него и не проявляли рассудительности?
— Вовсе нет.
— Но ведь вы занимались вовсе не
«своим», если
только читать и писать означает заниматься.
— Ничего иного это не означает.
— А лечить, мой друг, строить дома,
ткать или вообще создавать с помощью какого-либо искусства
любыепроизведения »того искусства означает, по-твоему, чем-то
заниматься?
— Несомненно.
— Но как тебе кажется,— спросил я,—
правильно
ли, если государство управляется законом, повелеваю-
щим каждому самому ткать и стирать себе плащ, та-
чать сапоги, и подобным же образом выделывать фляги,
скребки и всю прочую утварь, а за чужие вещи не брать-
ея, но каждому производить и изготовлять только свое?
— Нет, мне не кажется это правильным.
— Однако,— продолжал я,— если бы
государство
это жило рассудительно, оно жило бы правильно?
— Как же иначе? — отвечал он.
— Следовательно,— заключил я,—
заниматься та-
кими делами и подобным образом делать свое не озна-
чает быть рассудительным.
— По-видимому, не означает.
— Следовательно, как я и утверждал
недавно, по-
хоже, что загадками говорил сказавший, будто рассу-
дительность — это умение «заниматься своим»: ведь не
был же он настолько прост. Или, быть может, Хармид,
ты слыхал это от какого-нибудь дурачка?
— Вовсе нет,— отвечал он,— ведь
человек этот ка-
зался весьма даже мудрым.
— Тогда, как мне думается, он скорее
всего загадал
загадку, поскольку трудно ведь догадаться, что это зна-
чит — «заниматься своим».
— Может быть,— отозвался Хармид.
— Что же это, однако, значило бы —
«заниматься
своим»? Ты не мог бы сказать?
— Нет, клянусь Зевсом, я этого не
знаю! Но, быть
может, ничто не мешает такому предположению: тот,
кто это сказал, и сам не знает, что он имел в виду.
И говоря это, он с усмешкой оглянулся на Крития.
Что до Крития, то давно уже было видно, как он раз- с
дражен и как жаждет показать себя перед Хармидом и
всеми остальными присутствующими. И раньше-то он
едва сдерживался, а тут совсем потерял над собою власть.
Мне кажется, скорее всего я был прав, когда предполо-
жил, что именно от Крития слышал Хармид это объяс-
нение рассудительности. А Хармид, не желая сам объяс-
нить это, но стремясь услышать ответ от Крития, ста-
рался его подзадорить, делая вид, что тот опровергнут;
Критий же этого не стерпел, и мне показалось, что он
гневается на Хармида, как обычно гневается поэт на
актера, скверно истолковавшего его сочинение. При-
стально посмотрев на Хармида, он бросил:
— Ты так считаешь, Хармид? Значит,
если ты не
уразумел мысли того, кто сказал, что рассудительность —
это умение «заниматься своим», то он и сам этого не
разумеет?
— Но, достойнейший мой Критий,—
вмешался я,—
нет ничего удивительного, если в своем возрасте он этого
не разумеет; тебе же подобает это знать и по возрасту,
и потому, что ты его воспитатель. Если ты согласен,
что рассудительность — именно то, о чем говорит Хар-
мид, и принимаешь такое объяснение, я с гораздо боль-
шим удовольствием рассмотрю с тобою, правильно ли
это сказано или нет.
— Но я полностью согласен и принимаю
его объяс-
нение,— сказал Критий.
— И прекрасно делаешь,— подтвердил
я.— Скажи
же мне: согласен ли ты с тем, что я сейчас спрашивал
о мастерах, а именно что все они делают нечто?
— Да, согласен.
— И тебе
кажется, что они делают только свое дело
или также и чужие дела?
— И чужие также.
— Значит, рассудительными бывают не
только те,
кто делают лишь свои дела?
— Почему бы и нет? — отвечал Критий.
— Я тоже так думаю,— сказал я.— Но
смотри,
чтобы это не задело того, кто, предположив, что рассу-
дительность — это умение «заниматься своим», позже,
ничтоже сумняшеся, признает, что могут быть рассуди-
тельными и те, кто занимаются чужими делами!
— Как это? — возразил он.— Признав,
что рассуди-
тельными бывают люди, делающие чужие дела, я при-
знал, будто ими бывают и те, кто занимаются чужими
делами?!
— Скажи мне,—
возразил я,— разве не одно и то же
ты называешь словами «делать» и «заниматься»?
— Нет, не одно и то же,— отвечал он.—
Да и «тру-
диться» не означает «делать» . Я перенял это у Геси-
ода, сказавшего, что никакой труд не может считаться
зазорным. Или, думаешь ты, если бы он называл
словами «трудиться» и «заниматься» те дела, что ты
сейчас перечислил, он решился бы сказать, что нет ни-
какого позора в ремесле сапожника, торговца соленой
рыбой или продажного развратника? Не надо так ду
мать, Сократ; я полагаю, что он считал «дело» чем-то
отличным от «труда» и «занятия». И дело оказывается с
иногда постыдным, если оно не связано с чем-то пре-
красным, труд же никогда и ни в коей мере не может
быть позором: ведь Гесиод именует трудами то, что де-
лается прекрасно и с пользой, а дела, подобные тем,
называет делячеством и наживой. Нужно еще сказать,
что собственными делами он считает лишь первые, а все
вредные занятия относит к чужеродным. Так что надо
думать, и Гесиод и любой другой разумный человек
именуют рассудительным того, кто занимается собствен-
ным делом.
— Мой Критий,— сказал я,— едва лишь
ты начал
свою речь, как я уже уловил, что ты называешь то,
что нам присуще и свойственно, «хорошим», а сверше-
ние хорошего именуешь «занятиями». Я ведь много раз
слышал от Продика подобные различения имен . И я
предоставляю тебе распорядиться любым названием,
как тебе это будет угодно; разъясни лишь, к чему имен-
но относишь ты то имя, которое произносишь. Поэтому
сейчас надо снова уточнить: стало быть, свершение, е
или творение (или как тебе еще угодно это именовать),
хороших дел ты именуешь рассудительностью?
— Вот именно,— отвечал он.
— Значит, тот, кто совершает дурные
дела, не рас-
судителен, и рассудителен лишь тот, кто вершит хоро-
шие?
— А тебе, достойнейший мой,— возразил
он,— разве
не так это представляется?
— Оставь это,— сказал я.— Ведь мы
рассматри-
ваем сейчас не мои представления, но твои нынешние
высказывания.
— Я утверждаю,— сказал он,— что тот,
кто вершит
не достойные, но дурные дела, не рассудителен, рассу-
дителен же тот, кто вершит хорошие дела, а не плохие.
Я ясно условился с тобой, что рассудительность — это
свершение хороших дел.
— Вполне возможно, что ты и прав.
Удивляет меня,—
ie
продолжал я,— лишь следующее: что же, ты считаешь,
будто рассудительные люди не ведают того, что они рас-
судительны?
— Нет, я этого не считаю,— возразил
он.
— Но разве ты не сказал совсем
недавно,— продол-
жал я,— будто ничто не мешает мастерам, делающим
чужие дела, быть все же рассудительными?
— Да,— отвечал он,— я это говорил; ну
и что же?
— Ничего. Но скажи, не думаешь ли ты,
что врач, делая кого-то здоровым, приносит пользу и себе, и
тому,
кого он излечивает?
— Да, я так думаю.
— Значит, тот, кто совершает подобное
дело, занимается тем, чем должно?
— Да.
— А тот, кто занимается тем, что
должно, разве не рассудителен ?
— Конечно, рассудителен.
— И, разумеется, врачу необходимо
знать, когда он лечит с пользой, а когда — нет? И ведь точно так
же любому мастеру надо знать, будет ли польза от дела, которым
он занимается, или же нет?
— Быть может, и не надо.
— Значит, иногда,— сказал я,— врач
сам не сознает, с принес ли он пользу или причинил вред, когда
что-либо сделал? Хотя, когда он приносит пользу, он, по твоим
словам, поступает рассудительно? Или ты не так сказал?
— Именно так.
— Следовательно, получается, что
иногда, принося пользу, он поступает рассудительно и бывает
рассудительным человеком, хотя и не осознает себя как такового?
— Но этого, Сократ,— возразил он,— не
может быть. И если ты считаешь, что из моих прежних утверждений
необходимо следует такой вывод, то я скорее от них от
ступлюсь и не стану стыдиться признания, что я был тогда не
прав, чем соглашусь с тем, что рассудительный человек может не
осознавать себя как такового. Мое утверждение состоит примерно в
том, что рассудительность — это самопознание, и я вполне
согласен с человеком, сделавшим подобную надпись в Дельфах
2δ. Мне
кажется, что она была сделана с той целью, чтобы служить
приветствием бога, обращенным к входящим, вместо слова
«здравствуй!» . Сделавший ее, видно, считале обращение
«здравствуй!» неправильным и советовал вместо того желать друг
другу быть рассудительными. Таким образом, бог приветствует
входящих в святилище иначе, чем люди,— вот в чем заключался, на
мой взгляд,
замысел того, кто сделал надпись. И потому говорят, что всякому
посетителю бог возвещает только одно:
«Будь рассудителен!» Правда, в
качестве прорицателя он выражается немного загадочно: ведь
«Познай самогосебя!» и «Будь рассудителен!» — это одно и то же,
как следует из буквального значения этих слов и как считаю я
сам. Быть может, кто-нибудь и сочтет, что дело обстоит иначе,
как, я думаю, произошло и с теми, кто сочинил более поздние
надписи: «Ничего сверх меры!»
и «Не зарекайся — быть беде!» Они полагали, что изречение
«Познай самого себя!» — это совет, а не приветствие, обращенное
богом к входящим; поэтому, стремясь приписать богу не менее
полезные советы, они и начертали эти надписи. А говорю я это,
Сократ, вот ради чего: все, что было сказано раньше, я отдаю на
твое усмотрение; быть может, ты сказал об этом нечто более пра
вильное, быть может, и я, но нами не было сказано ничего
достаточно ясного. Теперь же я желаю предоставить слово тебе,
если ты не согласен, что рассудительность — это самопознание.
— Но, мой Критий,— возразил я,— ты
так нападаешь на меня, как будто я уже знаю то, о чем я тебя
спрашиваю, и соглашаюсь с тобой, когда мне вздумается. Однако
все обстоит иначе: я, наоборот, все время стремлюсь
вместе с тобою выяснить поставленный мною вопрос, потому что сам
я не знаю ответа. А сказать, согласен ли я с тобою или нет, я
хочу после того, как мы с тобой этот вопрос выясним. Потерпи же,
пока мы его рассмотрим.
— Так рассматривай же,— сказал он.
— Вот я и рассматриваю,— отвечал я.—
Ведь если
рассудительность есть умение что-либо познавать, ясно,
что она представляет собою знание некоей вещи. Или
ты не согласен?
— Да,— отвечал он,— это знание самого
себя.
— Значит, и врачебное искусство есть
знание того,
что дает здоровье?
— Несомненно.
— Итак, если ты спросишь меня: «Для
чего нам
пригодно врачебное искусство, коль скоро оно — наука
о здоровье, и что оно совершает?» — я могу ответить,
что оно приносит немалую пользу. Ведь оно доставляет
нам здоровье — прекрасную вещь, если только ты это
допускаешь.
далее
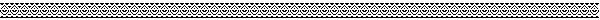 |