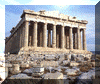В заключение приведём
отрывки музыковедческого анализа "Снегурочки",
данного Лосевым в работе "О
музыкальном ощущении любви и природы",
как ещё один пример практически
сплошного ЯЭ-текста, мифологически
следующего музыкальному переживанию
музыки Римского-Корсакова:
14). В Снегурочке нет взрывности и
прорыва из одного плана бытия в другой,
от земного круга к небесной и чистой
лазури; здесь всё совершается уже в
царстве достигнутой блаженной жизни.
Композитор привлёк все средства,
чтобы дать эту законченность
мироощущения. Прежде всего,
отметим некоторые элементы скульптурности
этого мироощущения.
Скульптурность есть то, что
охватывается зрением и осязанием. Это
высший вид оформленности. Таков,
отчасти, напр., музыкальный образ
Весны. Но поистине шедевр
скульптурности - это первая песня Леля
( в 1-м действии ). Вот эта песенка:
Земляничка-ягодка
Под кусточком выросла,
Сиротинка-девушка
На горе родилася.
Ладо моё, Ладо !
Земляничка-ягодка
Без пригреву вызябнет,
Сиротинка-девушка
Без привету высохнет,
Ладо моё, Ладо !
С чисто музыкальной стороны -
это необычайно оформленное,
скульптурное мироощущение. Сказать
- эпическое мироощущение -мало, так как
в эпосе главное живописность и
плоскость. Но если по "форме"
эта песня скульптурна и объективно-зеркальна,
то по "содержанию" она необычайно
грустна. И какова эта грусть? Это
спокойная, созерцательная, утомлённая
и чрезвычайно знающая жизнь
человеческая грусть. В ней весь мир
подёрнут этой дымкой грусти, как будто
лёгким туманом….Конец основной
мелодии знаменует собой…погружение в
какое-то царство сна и море мимолётных
грустных проявлений - после ещё одного,
на этот раз уже последнего, гребня
небольшой волны.
Ото всей песенки веет особой, если
можно так выразиться,
интелллигентностью, сознанностью,
спокойствием. Это мироощущение
усталого человека, который уже умеет
стоять на берегу житейских страстей,
умеет отнестись к жизни созерцательно.
Усталой тишиной веет от такой мелодии.
Но интересно - она вся - славословие
матери-природе, дающей отдых усталым
душам; она вся - поручение человеком
самого себя на волю и спасение этой
единой утешительнице. Она свежа, как
весенний воздух, но в ней нет жгучего
порыва. Она распыляет всякое действие
и своей эфирной струёй омывает
страдальческую грудь…Мелодия Леля
есть мир объективной зеркальности и
созерцательности, и здесь не только
утоление скорби, но и некая
гармонизация её с высшим бытием, хотя,
впрочем, всё-таки за пределами
индивидуального самоутверждения.
…К характеристике стройности
мироощущения, данного в "Снегурочке",
надо отнести, далее, былинный и
древнегуслярный стиль, которым
композитор мастерски воспользовался
в песне слепцов-гусляров 2-го действия.
Здесь зафиксировано то же
спокойно-волнующееся, как тихое море,
бытие, что и в первой песенке Леля.
Здесь только оно как-то темнее и от
него не веет такой свежей весной. Но
зато оно сгущеннее, строже,
монументальнее. Ещё ступень, и эта
песня была бы настоящим величием,
настоящим гимном Господу сил. Однако
эта ступень - отказ от своей личности -
в песне гусляров не пройдена. Это
песни души, личности, и они не хотят
воспринимать Божество вне его
сопричастия с индивидуально-человеческим.
Это лишает песнь характера
величественного гимна, но зато
придаёт характер интимного, хотя в
основе и эпического, исповедания веры.
Шаг отказа от индивидуального
самообоснования вне религиозного
порыва сделан в знаменитом гимне
Берендеев 2-го действия. Это почти
совсем мистически-церковная,
религиозно-органная музыка. Она
составляеткак бы центр и оплот всего
происходящего. Остальное музыкальное
действие "Снегурочки"
представляется по сравнению с этим
чем-то как бы временным и внешним.
Бытие, охарактеризованное в гимне
Берендеев, есть величественный и
вечный храм, за пределами которого
течёт вся человеческая жизнь, но под
нерушимую и освящённую веками сень
которого прибегает всякая душа
христианская, скорбящая и озлобленная.
Если мотив зябнущих птиц в прологе
есть нечто музыкально-живописное, а
первая песнь Леля есть нечто
музыкально-скульптурное, то гимн
Берендеев 2-го действия есть нечто
музыкально-архитектурное, ибо здесь
до большой глубины соединяются
структурность и массивность фактуры.(17)
В музыковедческих текстах
Лосева сама отвлечённая философская
терминология получает образное
напряжение, заражаясь друг от друга
единым музыкальным умозрением
Существа. Философский термин
вспоминает о своём языковом корне, о
своей фонетической структуре и
языковых синонимах и омонимах. А сама
экспрессивная, образная структура
текста глубоко уходит своими
случайными побегами в неподвижно
застывшее основание музыкального
смысла, никак невыразимого и никак не
определимого в Существе своём.
Перед тем, как приступить к
текстам экскурсоводческого характера,
возникающим над произведениями
живописи, вспомним о текст-фразе,
или текст-ключе,
определенном ещё в начале статьи как
литературная отмычка закреплённого
перед зрителем произведения
искусства.
Само "вращение этого ключа"
зрителем, логика межтекстовой связи,
как будто должна входить в понятие
такого "текст-ключа". Но
обязательно ли эта логика связи
экскурсоводческих текстов, "правило
вращения ключа", должна быть
логикой формальной, т.е. внутри-текстовой
логикой ? Повидимому, совсем нет, и
тексты могут следовать или в
некоторой последовательности, или как-то
иначе, повинуясь любому другому "правилу
вращения текст-ключа", лишь бы
предмет экскурсоводческого
усмотрения состоялся, разомкнулся в
себе.
Большинство практического
экскурсоведения и занято как раз вот
таким, свободным поиском
разнообразных правил приближения и
вовлечения в произведение искусства,
так или иначе инсталлируя его перед
зрителем и так или иначе действуя на
зрителя и на способность зрительского
восприятия. Практическое
экскурсоведение занято не логикой ЯЭ-текстовых
взаимоотношений, оно занято точной
инсталляцией произведения искусства,
и ему проще что-то чуть-чуть подвинуть
или изменить угол зрения, чем сказать
верный ЯЭ-текст, не утрачивая зримого
предметного образа. Но обратимся к
живописи и художественной критике.
Возьмём название живописного полотна,
картины. Текст-ключ к предмету
искусства - это ещё и попытка названия,
попытка наименовать его. Точнее,
попытка одновременно рассказать,
назвать, сказать о предмете тскусства.
Поэтому самое значимое слово, перво-слово
в искомом "тексте-ключе", будет
приданное автором-художником своему
детищу, имя: заголовок. Этот заголовок
уже есть своего рода буддийское
молчание текст-ключа, ведь перед
глазами зрителя всегда молчащее
полотно, ему предстоит произведение
искусства, а не текст, не заголовок.
Может ли этот молчащий пока, неданный
текст заголовка разомкнуть
живописное полотно, провернув "текст-ключ"
для любого зрителя ? Но и немой
заголовок и предстоящее полотно при
этом неизбежно складываются в единое
созерцаемое целое. И картина может
оказаться такой-же беспредметной ( мы
не имеем ввиду так называемую "безпредметную
живопись" ), что и до "текст-ключа",
представленного одним заголовком.
Когда заголовок картины
служебен, тематичен, и когда он сразу
же неспособен к предметному разговору,
происходит то же самое, то есть для
зрителя он оказывается пуст на его
пути навстречу произведению
искусства. Поэтому текст-ключ не
всегда развёртывание, перефраз
заголовка картины, названия
скульптуры, имени экспозиции, это иное,
навстречу видимому идущее слово, это
не авторское заглавие немого полотна,
а, может быть, зрительское
разворачивание заговорившего полотна.
Начинает текст-ключ экскурсовода
всегда от какой-то содержательной
формы произведения искусства.
Отталкиваясь от конкретно видимой
детали, цвета, рисунка, линии, факта
картины или момента её создания,
экскурсовод "ухватывает" её и
начинает как будто "двигать" эту
детеаль - ведь сама картина неподвижна
! Он двигает эту деталь интенцией
символического смысла, заставляющего
динамически охватывать
сцементированное в образе
открывающееся бытие. Символический
смысл его ключа проворачивается, и в
символе выступает незабвенная
свежесть вечно изменчивых форм жизни.
Первая, начальная деталь, как скважина,
в которую вставляется текст-ключ,
поэтому первое, что здесь требуется.
Общее, заданное в символе картины
направление вращения для текст-ключа,
как идея данного символического
текста, второе и главнейшее при такой
"искусственной отмычке" образа.
Так, если например о
известной картине Петрова-Водкина "Купание
красного коня", сказать, "просовывая
т.о. в неё текст-ключ" : "Главный
персонаж в этой картине - солнце", я
задам следующий текст-ключ, вращение
символического смысла, которое можно
более явно раскрыть, мы же ограничимся
его контуром: " Солнце - почему "красное"
- закат - красный конь - вечно загорелый
юноша". (Насколько позволяет видеть
этот контур поворота наш
непрофессионализм ).
Говоря о текст-ключе надо отдавать
отчёт в том, что это не есть создание
рядом с картиной или скульптурой
самостоятельного от него
литературного текста. ( Мы настаиваем
даже на большем, утверждая
литературную зависимость от
произведения живописи, что заставило
говорить о ЯЭ*-тексте, в предмете
искусства, а не о полностью закрытой
профессиональной знаковой системе. )
Ни о какой самодостаточности
экскурсоводческого текста не может
быть и речи - он всегда "при…",
всегда "о…", всегда дополнителен
как текст и принципиально не самодостаточен. Поэтому мы и говорим
не о тексте при экспонате, а о текст-ключе,
имеющем внутри те или иные лексически-выраженные
тексты ЯЭ,ИТ,ОП. Уместно напомнить
некоторые мысли Ю.Тынянова по этому
поводу, задавшемуся вопросами: "Но
иллюстрирует ли иллюстра- ция ? В чём
их связь с текстом ? Как они относятся
к иллюсрируемому произведению ?" - в
своей старой, но ставшей с тех пор
классической статье "Иллюстрации (18)"
.
Сосредоточившись главным образом на
графических иллюстрациях к
произведениям классиков (Гоголя,
Лескова и др.), Ю.Тынянов в этой работе
пишет, что " рисунок
должен быть рассматриваем, очевидно,
не сам по себе, он что-то должен
дополнить в произведении, чем-то
обогатить, в чём-то конкретизировать
его." На примере
издания, где "рядом со
стихотворением Фета "купальщица"
нам предстоит "Купальщица"
Конашевича", Тынянов показывает
пример, когда "стихотворение
Фета истолковано художником"
полностью, когда стихотворение само-по
себе "здесь
не повод". "Это-то истолкование и
представляет сомнительную ценность.
Конкретность произведения словесного
искусства не соответствует его
конкретности в плане живописи.",
отмечает Тынянов. Более того:
"…специфическая
конкретность поэзии прямо
противоположна живописной
конкретности: чем живее, ощутимее
поэтическое слово, тем менее оно
переводимо на план живописи.
Конкретность поэтического слова не в
зрительном образе, стоящем за ним, -
эта сторона в слове крайне разорвана и
смутна (Т.Мейер ), она - в своеобразном
процессе изменения значения слова,
которое делает его живым и новым.
Основной приём конкретизации слова -
сравнение, метафора - бессмыслен для
живописи.". Тынянов отмечает,
что "самый конкретный -
до иллюзий - писатель, Гоголь, менее
всего поддаётся переводу
на живопись". (Выделено
жирным нами, Г.М., чтобы подчеркнуть
перевод, равноправность
самостоятельность живописного
истолкования, критикуемое здесь
Тыняновым)
" И всё-таки очень
понятно это стремление к иллюстрации:
специфическая конкретность
словесного искусства кажется
конкретностью вообще. Чем конкретнее
поэтическое произведение, тем сильнее
эта уверенность, и только результаты
попыток… обнаруживают её шаткие
основы." "Так дело обстоит
повидимому, не только в отношениях
слова иживописи, но и в отношениях
музыки к слову. Самый мотивированный
её ряд - программная музыка -
оказывается, не всегда может быть
иллюстрирован словом. Чайковский
писал Танееву о 4-й симфонии: "Симфония
моя, разумеется, программная, но
программа эта такова, что
формулировать её словами нет никакой
возможности, это возбудило бы
насмешки и показалось бы комично."
Что же сказать о тех видах словесного
искусства, в которых настолько
сгущена специфическая
выразительность данного искусства,
что для перевода на план другого
искусства даже не остаётся повода ?
Можно ли иллюстрировать стихи Фета,
казавшиеся современникам настолько
бессмысленными, что даже оставляли за
собою все пародии Конрада
Лилиеншвагера, Фета,
свидетельствующего о них:
Что сказалось в них - не знаю,
И не нужно мне.
Неужели можно нарисовать, как
Поздним летом в окна спальной
Тихо шепчет лист печальный,
Шепчет не слова…
А ведь во всех стихотворениях Фета,
даже там, где как будто нащупывается
предметная образность, подлинно новым,
фетовским явлением искусства была,
конечно не тема и не предмет вообще, а
стиховой предмет…"
Тынянов ценит "понимание
разнородности задач художника-слова и
художника кисти, "свободы искусства
по отношению к поэзии и редкий такт к
ней. Задача рисунков по отношению к
поэзии здесь скорее негативная,
нежели положительная; оставить стихам
всю силу действия. Специфическая
конкретность поэтического
произведения не должна скрываться;
книга как поэтическое произведение
скорее сочетается с принципом
футуристов: прочти и порви, - нежели с
тяжёловесной "художественной"
книгой
Для рисунка есть два случая законного
сожительства со словом. Только ничего
не иллюстрируя, не связывая
насильственно, предметно слово с
живописью, может рисунок окружить
текст. Но он должен быть подчинён
принципу графики, конструктивно
аналогичному с принципом данного
поэтического произведения. Второй
случай, когда рисунок может играть
роль более самостоятельную, но уже в
плане слова, - это использование
графики как элементов выражения в
словесном искусстве. Поэзия оперирует
не только и не собственно словом, но
выражением. В понятие выражения
входят все эквиваленты слова; такими
эквивалентами слова могут быть
пропуски текста, может быть и графика.
Таким эквивалентом слова будет бутыль
у Рабле, рисунок ломаной линии у
Стерна, название главы в "Бароне
Мюнхгазене" Иммермана. Роль их -
особая… в плане слова; они
эквиваленты слова в том смысле, что,
окружённые словесными массами, они
сами несут известные словесные
функции ( являясь как бы графическими
"словами" ).
Эти "графические
слова" Тынянова, вместе с
обычными словами выступающие на
едином пространстве поэтического
выражения, - не устанавливают ли т.о.
зрителя, "созерцающего" (
страницу графически оформленного
текста, например ) слово, и "читающего"
"графическое слово" ? Но тогда мы
оказываемся в состоянии восходить не
только к текстам, как языковому
выражению, но и к живописно
выраженному образу. И тогда не
снимется ли наконец то обычное для
всякого процесса чтения положение
словесно-графической вненаходимости,
когда деятельность чтения
перекрывает созерцание графики, а "деятельность"-созерцателя
графики закрывает языковое
считывание текста.
В пределе мы получим единый
созерцательно-считываемый процесс,
зрителя и читателя, и очевидно, что в
этом случае речь может идти не о
словах и картинках, а о чём-то третьем,
о кодах восприятия, если угодно. Пра-иероглифах?..
К счастью, говорящее слово, литература
есть язык, наиболее полно выражающий
суть Универсума именно в качестве
слова, а не в качестве пластического
или другого его выражения.
Нельзя не сказать несколько слов в
оправдание практику-экскурсоводу,
экскурсанту,искусствоведу, у
представляемого ими экспоната,экспозиции,
произведения пластического искусства
порою беспрестанно повторяющего одно
и тоже восторженное восклицание: "
Поразительно. Поразительно !".
В такой "тяжёлый для многих
остальных зрителей" момент, этот,
пусть и действительно не очень
хороший мастер по вращению
экскурсоводческих текст-ключей, занят
утверждением некоего одному ему
известного градуса гиперболизма
нащупываемого им текст-ключа и
произведения искусства, своего рода
ритмическим мастурбированием
сильного эмоционального слова. Ведь и
текст-ключ это всего только попытка -
перед созданной тишиной образа.
Экспрессивное случайное слово
вставляет этот ключ в пустое
отверстие живого символа,
экспрессивное же слово навсегда
извлечёт его обратно. Практику,
экскурсоводу, переставляющему для
одинаковых обывателей самые разные
экспонаты и художественные детали ,
как тому единичному импрессионисту,
существенно важно находить другие
подходы и пути на ту высоту, "покорять"
которую ему уже не интересно. Но она
ему нужна, чтобы смотреть с неё и чтобы
показывать предмет искусства.
Экскурсоводческую специфику
художественной критики мы начнём
рассматривать, для начала, текстом из
мемуарной литературы о художнике В.Сурикове.
Как и всякие художественные мемуары,
будь то история старых спектаклей,
рассказы о художниках, о музыкальных
исполнителях, тексты этой книги
подают словесно тот зрительный,
живописный ряд, которого ныне уже или
нет, или забыт, или не является
предметом специального интереса, -
ведь мотивация книжной иллюстрации не
сравнима с мотивацией
художественного полотна, перед
которым на определённом месте стоит
его зритель.
Но литературное описание
зрительного ряда, как бы умело это
описание не напоминало о картине, не
воссоздавало её в памяти, занято
только тематикой, напоминаем о ней, за
редчайшим исключением, главным
образом когда сама картина читателю
уже хорошо знакома, в таких
литературно-описательных текстах в
какой-нибудь книге о художниках всё-таки
можно натолкнуться на "умело
всаженный" экскурсоводческий текст-ключ.
Как уже приходилось отмечать, тексты
культурно-исторической обстановки, в
которой жили художники, в которой
создавались их полотна, в литературе
такого рода поглощает собою
практически весь текст. ( смотрите наш
комментарий к примеру №3 ).
Но в выбранном нами тексте
язык экскурсоводов, неожиданно
ворвавшийся законченным ЯЭ-текстом
сразу же вслед за культурно-обстановочным
планом ( за ОП-текстом), вносит в
литературу ту живописующую
экспрессию, которая не исчезает, не
пропадает даром по окончанию этого ЯЭ-текста.
ЯЭ-текст преображает сам литературный
стиль, эпически воспроизводящий былое,
- он получает от таких периодических
всплесков ЯЭ-текстов редчайшее в
обычной литературе живописное
поэтическое качество .
15. На Преображенском
старообрядческом кладбище жила
знакомая старушка - Степанида
Варфоломеевна. Суриков просиживал
часами, слушая её рассказы. Она
познакомила его с раскольницами и
монашенками. Они охотно позировали
ему уже за одно то, что он казачьего
рода, сибиряк, а ещё за то, что не
курил. Многие женские образы в толпе
пришли в картину с Преображенского
кладбища.
Толпа уже была написана вся целиком.
Она колыхалась, дышала, то
отодвигаясь, то приближаясь к саням.
И каждый в толпе жил. Каждый выражал
своё собственное отношение к
происходящему, кто - восторженное
поклонение, как сидящие на снегу
нищенка и юродивый, кто - унылое
раздумье, какое сосредоточилось
на лице у странника, или обыкновенное
любопытство, с каким выглядывает
справа меднолицый татарин, у
которого лоб блестит, как начищенный
кувшин, или же торжествующую издёвку,
с какой пересмеиваются стоящие слева
поп-никонианец и боярин.
Суриков писал их, наслаждаясь
своей властью, своей мощью
колористического и
натуралистического видения. Кисть
его безошибочно сообщала "светящуюся
до мерцания" одухотворённость
лицам. Он так точно знал все
законы цвета, что распоряжался ими
смело и вольготно. Молодую монашенку
с испуганными глазами и трагическим
изломом бровей он поставил за
склонившейся горожанкой в жёлтом
платке и синей шубке.. Этот ярко-синий
рытый бархат бросал голубой рефлекс
на лицо монашенки, и оно становилось
ещё бледнее и трагичнее. Этого бы не
случилось, будь шубка горожанки
тёплого красноватого тона. (19)
Энергия предваряющего каждый
абзац ЯЭ-текста как бы позволяет
всматриваться в профессиональные
детали и конкретные черты. Так что за
каждым ЯЭ-текстом идут ИТ-тексты, в
исторически-описательной литературе
тесно смыкающиеся с культурно-обстановочными
ОП-текстами ( как мы помним, в силу
познавательной последовательности
текстов: ЯЭ - ИТ - ОП ). ЯЭ-тексты дают ту
художественную мысль, которая тут же
демонстрируется.
Можно
ли ставить тут вопрос о текст-ключе ? В
какой-то степени. Учитывая, что мы
огранились в данной цитате лишь малой
частью того предметного анализа,
который развивает в книге автор, так
что не можем здесь усмотреть всей
доказательности, во-первых. И во-вторых,
поскольку всякий последующий тип
искусствоведческого текста поглощает
тип предыдущий, так что для
познавательного предмета: ЯЭ - ИТ - ОП =
ОП ( или ОП - ИТ - ЯЭ - ИТ - ОП ), а для
созерцаемого предмета: ОП - ИТ - ЯЭ = ЯЭ,
(или ЯЭ - ИТ - ОП - ИТ - ЯЭ ), мы безусловно
можем говорить о попытке
художественного текст-ключа в
приведённом отрывке, особенно если
все выделенные, ярко выраженные ЯЭ-тексты
соединить в одну символическую идею
такого текст-ключа
Примечания
17) А.Ф.Лосев, указ.изд., с.609-611
18) Ю.Тынянов,"Литературный
факт", М.,1993,с. 292
19) "Дар бесценный", Н.Кончаловская,
М.,1963,с. 163
назад
дальше