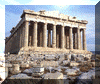|
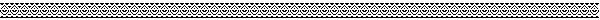
7 6
5
4
3
2
1
36. -
Гляньте на него.. Сразу видно. Если присмотреться, - вороват,
вороват...
- Да что вы говорите. Это наш известный, очень уважаемый всеми господин,
мы все его давно знаем...
- Да присмотритесь повнимательнее. Только чуть внимательнее, - как он
говорит, куда смотрит, что куда спрятал, если никто не видит. Вообще, я
вам скажу, сразу видно, если только присмотреться, вороватый тот или
иной человек, или не вороватый. Вот он вороватый.
- Полно, полно вам. Когда перед вами хорошо вам знакомый человек... да и
по всем делам своим хорошо известный, вы на дела, на дела смотрели бы.
- А вы бы лучше смотрели, внимательнее. Я вам говорю, этот человек
вороватый. Этого от него не отнимешь. Он может быть нобелевским
лауреатом, доцентом прехитрой кафедры или моряком, но вороватости, милый
мой, с его лица никак не отнять, не снять, так сказать.
- Ваша подозрительность, должен сказать я вам, не делает вам чести. Она
чрезмерна, и судя по всему, не соответствует фактам.
- Фактам? Ну, фактам, известным вам, тем более как я смотрю, вы такой
невнимательный, она может и не соответствует. А вот того, что
вороватости с лица никак не снимешь, это я вам говорю точно. Диагноз, не
диагноз, но рано или поздно, этот человек вас обдерет до нитки и по миру
пустит, соответственно. Да вот же, вот, смотрите... Да, вороват,
вороват...
- К чему вы все это? И не жалко вам ваших - глаз??
- К чему?!.. Да жалко, глаза бы мои не видели всего этого. А к чему -
скажу к чему: все это, дорогой вы мой, последствия октябрьской
революции, да-да, той самой, перемешавшей подлеца и честного человека в
одну безликую единичку, вороватость которой плавно перетекает в сноровку
и изворотливость. Сейчас, наши новые хозяева, только бодро заимствуют
этот универсальный тип хама и лизоблюда, типаж коммерческого
приспособленца, из того советского периода..
- Да у вас кругом теории, а перед вами живые люди проходят. Кажется, мне
уже пора идти.
- Конечно, конечно, ступайте. А теории и правда, проходят как живые
люди, мимо. Всего доброго.
- Имею честь.
37. - Куда ни
посмотришь, - одни гностики, книжники или фарисеи.- -А вы обратите
внимание на природу вокруг нас. Куда ни посмотришь, - кругом или дуб, или
сосна, или березка. Гармоническое разнообразие, одним словом. А главное
что? Что все это только "вокруг"!
38. А.Лосев
написал работу, где проводит свое эйдологическое описание, т.е.
конструирование неоплатонического Единого, что называется, с чистого
листа, с ровного места (это опубликовано в качестве отдельной
дополнительной работы в переиздании его "Эллинистически-римской
эстетики", в 2002 г., под заголовком "История эстетики, фрагмент."), -
есть там такой отрывок: "Нео-платонизм, изложенный ясно, как солнце."
(с.577 указ. соч.) А.Ф.Лосев здесь хочет "говорить обыденным языком",
лишь бы "сохранить ясность суждения". И начинает так: "а) Я сижу сейчас
в саду под яблоней и пишу эту главу о неоплатонизме. Стоит хорошее лето.
День ясный, ясный, теплый и даже ласковый..."
Этим летом я был в Крыму, отдыхал в
Севастополе, где конечно же сиживал на берегу морском, и, однажды, глядя
на стремящиеся ко мне издали волны, понял, что передо мной почти готовая
аналитика Единого. То же самое, но немного по-другому. Волнообразная
структура идеально подходит для целей конструирования картины
становящегося единства. Волна - и характерна как раз тем, что ее
участки-гребни постепенно, в ходе ее продвижения, становятся
участками-провалами, причем вдоль фронта движения, визуально, она
остается той же самой волной, или тем же самым, тогда как
по фронту своего движения она изменяется с точностью до наоборот, гребни
становятся провалами и т.д., совершая т.о. волнообразный цикл во
времени. Конструирование целого, единого, происходит примерно
таким образом. Волна (см. только что сказанное) - и одна и не одна, т.е.
и одинакова и волнообразна. Волнообразность ее (без одинаковости, только
как циклическое приближение) протекает оттуда - сюда, поэтому расстояние
это - единственно, одно и то же, и преодолевается только во времени, но
не в форме, - волны, бьющиеся у меня под ногами, ничем от той, далекой
волны, формально не отличаются ( фонетически же - только метром, ритмом
прибоя)Дальше, - самая сильная установка: время, измеряемое в д.сл.
всплесками волн, точно так же волнообразно, т.е. оно повторяет само
себя, как и волна, а вовсе не плюсует, не считает волны и секунды, одну
за другой. Если последнее принято, т.е. каждый всплеск - это само время,
принята и ближняя, прибитая около меня волна, - принята и дальняя, точно
такая же волна. Точнее, ближняя, слышимая, - существует, дальняя,
видимая, - существует также только как ближняя, слышимая. Ее там
- это слышимое здесь другой, этой ближней
волны. Расстояние между ними исчезает, волна становится единственной, и
сразу единой, покрывая собою все водное, волнообразное пространство, море, которое т.о. как и волна, оказывается и там - и тут,
и вне-меня и во-мне, (шеллингианское тождество) т.е. море
покрывает собою все становящееся волною, и точно также сливается с
сушей, где и на которой я сижу (восходя ближе к традиции - это "небо" и
"земля"), меня же просто нигде не оказывается, и не остается, ни места,
ни времени, поскольку всюду есть - единая, неподвижная волна,
всегда везде становящаяся и всегда достигаемая каждым всплеском своим.
Волна, ставшая всем - и все, ставшее волной. И это - время всплеска,
конкретно-слышимого, неотступного, роскошного, и - случайного во всей
водной многоструйной стихии. На всей морской "приземленной" глади.
39.
Чем так "привлекателен" для определенного рода молодежи суицид, "игра в
самоубийство", самопровокация к нему как к властному, добровольному
акту? Почему именно в юности? Когда, например, молодой человек - иногда
даже на публике, намеренно, играет со смертью, грозя себе (и этой самой
публике заодно) что сейчас выбросится из окна, откроет себе вены, -
пусть только окружающие, "вы все", публика, - не подходят к нему, только
смотрят, как он играет со смертью... и он рассчитывает ритуал
самоубийства и дистанцию между собой - и миром. Глядя на подобное
поведение со стороны, людям видится не просто нездоровая, духовно слабая
сторона такого человека, но опасная, и неуправляемая сторона. Есть ли
какие рациональные причины, стоящие за подобным поведением? Почему
все-таки - так?.. Думается, что все дело здесь в том, что в юности
у человека совершенно особые отношения со смертью. Как сказал поэт,
вообще "люди в детстве ближе к смерти". Юность же эту близость
"чувствует" и представляет как некую живую динамическую воронку, которая
имеет индивидуальные центростремительные силы, (рок - старость с роком
дела не имеет, юность - имеет) с возрастом человек отходит от воронки
все дальше, отодвигая смерть все дальше и дальше, подчас до (рокового)
не-различения ее с самою жизнью, отчего к старости возникает другое,
мирное отношение к ней как к соседу-невидимке, который тихо приходит в
дом без приглашения. В юности затягивающая воронка смерти проходит
совсем близко, и молодой человек, если можно так сказать, напрягает
жизни силы для преодоления смерти, сильно ощущаемой «у самых концов ее
воронки». Не важно при этом, воюет ли он, пишет диссертацию, или в нем
обнаруживается сильные всеохватывающие чувства к женщине. И вот, он
может понимать, что власть над этой смертной воронкой - есть полная
власть над собственной жизнью. Он захочет овладеть ей, в безмерности
своей власти и своих чувств. То же, что видят такую игру со стороны,
публичная оценка, для него есть пустой звук на фоне тех сил, которые
освобождаются его игрой со смертью. Могут увидеть и пошлый расчет – что
ж, пусть. (Так оно и есть, молодой самоубийца расчетлив в отношениях со
смертью, не с миром - в старости все наоборот.) Даже неплохо, что есть
свидетели - они для него внешние метки, маячащие на берегу и машущие
терпящим бедствие на корабле рукой - они и цель его и даль его. Но
задача его – шторм. Только он сам, сейчас, сможет "прощупать" края
собственной смертной воронки. Только в юности человек способен так
свести, рационализируя отношения со смертью, почти к форме дуэли - твоя
инициатива, или ее инициатива. В юности жизнь сверх-динамична, но
потому-то и смерть оказывается динамична, ей ничего не остается, человек
ищет как овладеть этой динамикой смерти, как подчинить ее динамике
жизни, или движению просто. Но он не знает, где кончается эта его власть
над движением и жизнестановленьем, если уж он решает однажды
беспредельно уступать и уступать ее смерти, по праву сильного. (Приходит
на ум ницшевский Заратустра, его сверхчеловеческая сила жизни.) Таким
образом, расчет здесь несомненный: полагаясь на динамику, сильные
ощущения становления жизни,- а именно юность узнала, что все не берется
из ниоткуда, чудесным образом (это осталось детству), но все движется,
меняется, становится, - заглядывать, что такое и какого рода, эта
«обратная» динамика смерти. Юности все время кажется, что они сходны,
вот в чем роковая ошибка, - она уверена, что к смерти ведет динамика
того же рода. Насквозь динамическая, юность обольщается
изменениями и движением. Она – стремится, и живо проносится меж
ценностных центров, желательно максимально отталкивающихся,
поляризованных, желательно там, где намагничена жизнь и силы ее, и
проносится от центра к центру, ей нужны и ритм, и сила, и цель. Тогда
как смерть как раз не становление жизни, а ее тьма, - не то, в чем
происходит становление, а то, в чем ничего не происходит: смерть
неотличима от неосмысленного и размытого в неокачественном, т.е.
ничто. Для юности же ничто есть все-таки нечто. Света много везде,
не может не быть везде. В ней столько жизнеоптимизма!.. И трагизма вслед
и вместе с ним.
40. (продолжение) А у самоубийства, бывшего когда-то суицидом
молодого человека, не оказывается главного - динамики жизни: идя - за
смертью, человек внезапно останавливается и просто не знает как ему быть
дальше. Но этого "дальше" уже не оказывается, динамики нет. Человек,
стреляющийся из-за банкротства или измены - в конечном итоге то же самое
получает мгновенную остановку, "тормоза ударяют" на него со всех сторон.
Но в этом случае имеется внешняя причина такой пустоты, высокий внешний
барьер. Когда же человек в младые годы "доигрывается" с тем, где
заканчивается воронка его жизни, и где начинается - смерти, оставаясь
не просто в пустоте, но и в темноте, т.е. динамику жизни динамикой же
разрушает, убивает в точном смысле слова, социально это оказывается выше
и понимания и какого-либо человеческого сочувствия, - именно этим,
отсутствием сочувствия он простирает пустоту и безжизненное на мир
вокруг себя, мир человеческий, на людей и близких. Идти в этом
само-разрушающем направлении самопроизвольно - не просто грех, это
противоестественно, и человек ищет, хочет зацепиться за внешние причины,
и причины эти им подбираются, находятся. Грех измеряется как раз
степенью такой рационализированности, степенью такого духовного
самообмана. Ромео, и Джульетта, ни секунды не способные жить друг
без друга, это одна "печальная повесть". Совсем другая - расчетливый
ритуал самоубийства, в течение которого человек еще живет, но самим этим
ритуалом он как бы говорит собственной жизни, еще теплой, еще чуткой и
бесконечной: ты - ничто для меня. Откуда такая убийственная
неблагодарность – к ней, к жизни, к дару? Откуда такое чувство духовного
собственничества? Можно ли на жизнь отвечать смертью жизни, на действия
- смертью действия, на слово - смертью слова? Ведь и эта жестокость
его, и время его, и он сам - все еще до краев исполнено жизни. До самой
последней минуты, до самого последнего действия, уже убийственного,
рокового - он одарен, он награжден, он способен к деятельности, к
живому. Откуда же - эта пощечина - возможности "раздавать" и "раздавать
пощечины"? Апофеоз до-разумного действия? Но ведь это - не сфера мысли,
это там мысль попирает саму себя, мысль, здесь сфера действий, сфера
духа! Ему ли не видеть это. Что это, помрачение? Я отвечу, возьмусь: это
от черноты. Не от отсутствия разума, хочу уточнить, но от присутствия
болезненной "спайки", связки черноты и глупости (бедности светом), что и
есть сознательное сумасшествие. Разум против, поперек разума идет
вровень с тем, что жизнь, динамика ее - идет против жизни. Второй при
этом помогает первый, разум, первому - помогает верность жизне-динамизму,
второе. Человек духовно скручивает себя и оказывается парализован. Спаси
Господи, нас и ближних наших, от подобных бед, и пошли нам ангела - вот
все что надо, - два взмаха его белоснежных крыл, - глоток гениальности,
глоток простоты.
41. Не
каждому "дано" - А я бы сказал так - не каждый может стать поэтом.
Попробую прокомментировать это сильное дополнение и уточнение.
1) Чужое - мое. Первое, что "отталкивает от поэта" и соответствующего
ему жизнечувствия, жизнеотношения, если можно так сказать, - это
чрезмерная занятость им самим собой. И я бы добавил уточняя -
"чрезвычайная" занятость им собой и собственным внутренним миром, (такое
даже клише, но здесь мы его воспроизведем).Это сразу же отталкивает или
притягивает, в зависимости от того, что открывается за такой "занятостью
чьим-то миром". Если открывается все, т.е. собственно - поэзия, -
творчество, - и Творец наконец, - на этой стадии не происходит
отталкивания, но наоборот, сообщается очень мощная духовная составляющая
жизни. Становится заметно, что весь мир поэта преображен органично и
просто, он не ворочается от одних жизненных проблем к другим, не
диктуется нижним и мирским, но культурно легок, гибок и глубок, он
просветлен свыше, и подан свыше, - но видеть так уже есть видеть
перспективу и видеть дальше и выше "первого".
2) Из всего в мире - я извлекаю драгоценности, делая мир драгоценным.
Второе, что открывается после преодоления первого, но что тем не менее
способно снова отталкивать от поэта, его жизни и его мира, - есть
своеобразный коррелят ответов на следующие вопросы, в которых
грамматически измеряется качество этого творчества: что творить и в чем
(материал творчества), когда и зачем (жизне-ответственность художника за
творчество), почему (содержание), как (форма), и др. Причем качество
чужого (пока что) творчества такими ответами измеряется и примеряется к
Творчеству как таковому, т.е. к уже возможному, собственному. Если
"второе" препятствие пройдено успешно, возникает не что иное, как
творческое отношение к жизни, к действительности. В жизни проглядывает
Творец и единый, первосозданный Лик мира, - мы сами вызываемся этим к
сотворчеству, и сами творим, преображаем, чудодействуем. При этом
пересозидаем весь свой мир и поэтому чрезвычайно заняты и этим миром и
самим собой (как это представляется извне, в первом случае).
3) Самое драгоценное - извлечение драгоценности, способность к этому,
но
это уже не только от меня зависит, но в первую голову от Бога. Преображения мира
недостаточно для того, чтобы быть поэтом. Должен признать, что этой
"второй" творческой стадией, стадией теургического действа, Бог щедро
наделил многих. Все призваны и все помазаны уже самим именем человека, все
зависит от того, чтобы имя человека было принято и пронесено,
воплощено в жизни. Но самих возможностей теургизма и теургической свободы
уже
недостаточно. Вот что важно. Третья стадия - это как раз обратное: несвобода
теургии для человека. Любимым художникам, этим вечным детям созидаемой
жизни, баловням созерцания всегда нового дня творения, - Творец ставит в
жизни художественные задачи, назовем это сразу так, суховато и ясно.
И тут важно все: что понимается под такой задачей, в связи с чем и
как она прорубается. Творец нянчится, помыкает и носится со своим
художником, как с ребенком. Он балует его, гонит его, заставляет его
работать, - например, десятилетия напролет как один день или наоборот,
один день как десятилетия, Он благодетельствует его или спихивает с
моста в воду. Воля Творца - и есть концентрированная жизненная форма
художественной задачи, или художественных задач, которые решает
художник. Спросите у художника - "Вот вы создали вот это неповторимое.
Ответьте нам, откуда вы и как вы смогли?" Художник может говорить многое,
даже выдумать пред-историю, историю воплощения замысла, но главного он
не скажет, потому что сказать этого невозможно, ибо слово сие слишком на
поверхности и слишком невероятно: все вот это, подлинно творческое, - и
не мое, и не от меня, и не Ему, и не вам. Это - Его. Все. Ничего больше.
Это Он - о мире? Нет. Это Он - о Себе? Нет. Не знаю. Но это - Его. Более
того, мне представляется, подобный ответ, и есть единственное
слово, встающее за творчеством, слово, встающее во весь рост свой, в
рост созданного мира и созидаемого мира. Итак, от свободы полнейшей,
возникающей после второй стадии, в свою очередь возникшей после первой
стадии преодоления частности, - к несвободе наиполнейшей.
42. Может и лиса
- дочь демократии, раз уж Лисий - сын Демократа, из дема Эксоны,
происходил из богатой и знатной семьи? (Лисид 204d)
43. Мы
как-то уже все привыкли, что у Сократа не могло быть наставника, мудрого
и влиятельного, что начинает казаться, что и самого отца у него также не
было. Например в "Пире" Сократ отводит наставлениям Диотимы, якобы
получаемым им в юности, основное место в своей речи во славу Эрота, есть
сомнения в подлинности этого ученичества, тем более, что "Пир" прекрасно
сделанный Платоном художественный диалог, где очень много создано и
служит явно никак не объявленным философским целям. А между тем, из
Евтидема 297е узнаем, что родным отцом Сократа был скульптор, Софрониск,
и это странным образом кажется и убедительным и важным для нашего
понимания фигуры Сократа, и отнюдь не случайным (!) Именно скульптор.
44. Для
любого философа-историка всегда есть вещи, которые предлежат не то чтобы
на противоположном, предельном конце той темы, которую он преследует, а
на ином конце, - если позволено так сказать, - метафизического
плоскогорья бытования его мысли, и их-то он никогда не упускает из виду.
Занимаясь развитием в истории влиятельнейших, глобальных философских
школ, течений, всегда не отпускает загадка понимания отдельно взятого
человека, причем сегодняшнего, знакомого, и в знакомой мысленной
ситуации. Без этого - нет того. Историку, например, никогда не будут
понятны аргументы от цивилизации, пропитавшей историческое сознание
обыденного и рядового человека: вот де, раньше голодали, бедовали, но
сейчас другое время, история ушла вперед, и нам этого не понять, сейчас
иные проблемы, а об этих, - надо спрашивать с государства, и спрашивают
с государства... (Спрашивайте, конечно, с государства, тем более что ныне
оно само вам это разрешает, спрашивайте.) Ле Гофф пишет: "Средневековый
Запад - это прежде всего универсум голода, его терзал страх голода и
слишком часто сам голод. В крестьянском фольклоре особым соблазном
обладали мифы об обильной еде." Но если многих мучили в прошлом
такие "простейшие проблемы", эти жизненные нужды, если многие из-за них
получали в итоге не одни лишь язву и гастрит, - а вещи куда более
глобальные: сознание, заботы, характер, - как будто совсем
другие чем у вас, - спрашивается, как вам - с вершины-то
цивилизации - этих людей разглядеть? Почувствовать их беду как беду?
Понять? Вы и сами не хотите. Для вас те беды - элементарны, для них -
они не были таковыми. Вот Родион Раскольников... Голод, деньги за учебу,
жилье как в гробу, питание в трактире непонятно какое, когда, сна нет от
переживаний, надеть толком нечего, - ну полная нищета вокруг него - а
мысль, а полет ее! - каков! А дух - прямой, высокий, благородный! Полет
вот только кровавый, нельзя рассекать топором людей точно пером бумагу,
но видите, занимаясь судьбой Наполеона и философией Ницше - трудно
становится понять отдельную старушку-процентщицу, тем более этой
философией она полностью определена.Но вернемся к полету мысли - ведь мы
понимаем эту мысль Родиона? Безусловно. Мы даже не соглашаемся с ней,
спорим как с недостаточно логичной. А - голод его мы понять, что же, не
в состоянии? Выходит так, сами сказали.Но понимаем ли мы его тогда? Нет,
мы отмахиваемся и от Родионов Р-ых, и от бед ему подобных и вместе с
этим демонстрируем, как - цивилизация паразитирует на нашем историческом
сознании, вбивая в головы собственных детей: чем дальше в историю, тем
лучше, чем раньше - тем хуже. История не нужна. Цивилизация и культура
цивилизации - вот нечто исторически "ощутимое", вот конкретный
исторический вклад, и заклад нашего прошлого на будущее. Ну идиоты и
слепцы, что тут сказать! По мне, однако, нищета Петербурга Достоевского
или камни оставшиеся от Херсонеса, куда дороже, значительнее, вашей
разноцветно-столичной пахучей возни и компьютерной сосредоточенности. В
каморе Раскольникова, напоминающей изнутри гроб можно по настоящему
перечесть и И.Канта, и Г.Гегеля, а вот в коттедже на Воробьевском шоссе
можно только принимать столичных блядей и ежедневно и неустанно, и не
верю, что там возможно счастье. Что же до Порфирия Петровича, - надо
сказать, что он все-таки
изверг, - и наверняка он штудировал Гегеля в молодые года, - так забивать
молодой сильный дух героя вовнутрь его души и тела! Точно на бойне.
45.
Вышел (2005 год, осень) очень хороший том статей московских
философов-классиков, "Космос и душа". А я подумал - вот бы вышел том
статей посвященных теме: "Душа и вещь"... Вещь и душа... Душа над вещью
- "дышит", кружит, всячески оживляет ее собой, и эта вещь начинает
становиться "теплее", обретает личностные, индивидуальные черты, почти
телесные характеристики, - и что же? Что? Она, - как только именно вещь
- останется, остается, - здесь, в пределе мира вещей, как и это тело,
как и все то, на что лишь попутно расходуется вся эта "теплота", весь
этот "жар души",- ведь это только телесные посредники, только звенья
связующие между духом - и духом, между светом и светом, и между
источником жизни - и жизнью вечной. Вещь предана вечности, - как
обречены ею тела... Но нет. Не такова эта Жизнь Вечная, ибо не мрак
пронизывает она, но Дух пронизывает. И посредников, - тел и материи, -
нет, ведь посредник Истины - истинен, а посредник души, наше тело, -
духовно, посредник же духа, материя, - душевна; и там, куда излился Свет
Истины, или где прошел Спаситель - не мрак и не людская торная тропа, но
Свет и Встреча с Ним на пути. Свет - просвещает и просветит все. Истина
- есть. Того же что ее нет, оставим формальной логике, дробящей одно
на двое. Истиной, Светом Еe - спасутся, должны
спастись и цели и посредничающие им; и звезды, и безгласные пути,
которыми струится к нам свет их. И вещь - останется как вещь. Но в
Свете - как именно вещь, - она станет уже ничем, в Свете - вещь преобразится
и приблизится к нам, являя этим чистое духовное чудо.
46.
(Диллон, "Средние платоники", о Спевсиппе.) Принципиальная позиция Д. Диллона
в том, что видя в учении Платона как письменную, так и устную стороны,
он берется восстанавливать учение
Платона и его ближайших последователей не только и не столько по
диалогам (иногда складывается впечатление что и вообще тщательно обходя
диалоги), сколько по свидетельствам среди
мыслителей близкого самому Платону периода. - Все они конечно же на
вес золота и давно известны (приходят в голову
сократические произведения Ксенофонта Афинского, отзывы об Академии
других разбежавшихся после смерти Сократа его учеников и подражателей, -
киников, киренаиков, и др. ). Но Диллон сразу же
находит такие отзывы на устные положения Платона в критике
Аристотелем Платона и его учеников, и сосредотачивается именно на обширной литературе Стагиритского ученого, в основном конечно
на "Метафизике".
Исследователь-историк отваживается вступить на очень спорный и скользкий
путь "созидания из разрушаемого". Он и сам отмечает "тенденциозный и
фрагментарный характер" (с.53) свидетельств Аристотеля о платониках-философах, Диллон пишет: "Аристотелевская полемическая стратегия
сводится здесь, как и в других случаях к тому, что он сначала допускает
что его оппоненты используют тот или иной термин в том же смысле что и
он, а затем сводит их позицию к абсурду.."(с.62) и тем не менее ученый
идет по этому рискованному пути реконструкции понимания из непонимания.
Чтож, "на тропу вставшему и тропа - под ноги", но можно с этим
поспорить.
Именно с тем, что, помимо несущественных Аристотелевских нападок на
Спевсиппа, исследователю не с чем больше работать для реконструкции его
фактического учения. А поздние комментаторы-платоники? Они-то не
перевирали до такой степени, хотя бы Спевсиппа, стоя на одном с ним
основании? Зачем им это, если они его понимали, от самых начал его мысли
? Так не ценнее ли несколько положительно-конструирующих ассоциаций с
мыслью того же Спевсиппа в поздних трудах Прокла или Порфирия,
посвященных комментированию Платона, - отрицательных дезинформирующих
упоминаний об этом у Аристотеля? Да, Платон учит нас логическому вниманию
к отрицанию, но перипатетики - не платоники, Аристотель строит свой Ум
сам, тщательно продумывая свою Сущность. И ему диалог с кем-то здесь не
нужен и не важен, тем более с кем-то определенно чуждым.. Можно понять
Лосева: если Прокл позволяет понять, именно понять Платона глубже - так
значит, он знает его, он начитан и не ошибется в первых его терминах.
Почему не брать Прокла в "добрые поводыри"? - И мы всегда сможем поспорить
с Проклом в расчищенных им для этого же от мрака умных обиталищах
Платонова мира. Но полагаться лишь на заведомо искажающую критику - ради
чего? Допустим, если придерживаться той точки зрения, что у платоника
должен быть свой 1) собственный аппарат, некая начальная
терминология, на этом конкретном этапе пробующая уточнить и преодолеть
проблемы предыдущей терминологии, - и 2) некое понимание, в общем целом
продолжающее и развивающее единую традицию, то Диллон как раз и хочет
благодаря деструкциям Аристотеля выделить такой исходный аппарат у Спевсиппа.
Аппарат, который
был, но который уже не упоминается поздними комментаторами, так что от его
стройной картины не осталось и следа. Но как раз на уровне критики аппарата
Спевсиппа, Аристотель и
сбивает с толку читателя, навязывая Спевсиппу собственный аппарат!. Всегда
ведь, общность мысли способствует
герменевтике, а особая терминология ее затрудняет. (Надо сказать, мы
часто слишком
близко к Академии ставим
Аристотеля в своих представлениях. Из одного факта его нахождения в
Академии? Да, 20 лет он учился и спорил с Платоном, однако жил-то всегда в
своем доме в Афинах, не оставаясь в Академии даже на ночлег (см. с.14).)
Впрочем, впрочем, - Диллон отважен:"тропы эти" трудны еще и своей
"исхоженностью":
кто из платоников не пытался в критике Аристотелем Платона видеть
какие-то конструирующие Платоновский универсум положения, а натыкался на
самого Стагирита? Но обыкновенно порукой служили исследователям тексты платоновских
диалогов, Диллон же и диалоги хочет выносить за скобки, и они
вторичны, к чему бы такая
решительная позиция?..А вот к чему, и вот отчего: Диллон признается, что
глубоко верит, и хочет верить Спевсиппу, продираясь сквозь иронию и
критики его Аристотеля, к теоретической высоте и связности его
платонизма: "...по-прежнему считаю, что действительно эпизодический
космос был бы анафемой для истинного платоника"(с.60).
|