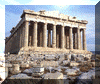52.
Пересмотрел "Жертвоприношение" Тарковского спустя этак
десяток с лишним лет. Даже здесь, помимо изветных картин: "Сталкера",
с его гипер-мистикой, фантастической мистикой, "Соляриса", с
научно-изобразительной мистикой если можно так сказать, помимо "Зеркала"
наконец, с реалистической мистикой, во всяком случае
попыткой реалистической символической мистики, - и в "Жертве" тоже,
вместе с тем, полно мистики, причем довольно "грубоватой",
навязчиво выставляемой, ее невозможно ни обойти ни не заметить
зрителю.
Конечно, тут надо сказать, что,
мистичен сам язык кинематографа, если это язык, и глубокий язык.
А мистика - есть <мгновенно>
явленный в реальность символ иного. Мистика и есть показанный
символ, в особенности это так для художника кинокадра,
конструирующего идеи культуры на экране. (Навязчивость эта,
отмеченная нами выше, потому во многом оправдана, используемым
жанром, кино-языком пластики, кадра и формы.) Фильм разбивается,
на эпизоды-символы, эпизоды-знаки, законченные и взаимосвязанные
между собою.
Так, адепты-мистики даже начинают и заканчивают своим
кружением на велосипеде фильм: в начале велосипедист-почтальон
вычерчивает круги вокруг малыша и героя, в самом конце женщина,
спасшая, сама того не ведая, мир от катастрофы, догоняет на
велосипеде увозимого в псих-больницу героя все по той же дороге,
единственной, у которой стоит дерево и вдоль которой малыш носит
живительную влагу для этого засохшего дерева...
Мир в состоянии атомной войны – что может спасти его? Кто
может спасти его? Праведник? Грешник? Женщина? Что? И может ли?
Почтальон появляется, удостоверяет себя в качестве мистика, и
дает герою таинственное указание – «последнее», что может в этой
безвыходной для человечества ситуации мир спасти - некая
женщина, на самом деле ведьма, живущая с той стороны озера, так
вот, с ней надо, грубо говоря, переспать. Должна состояться,
случиться, явиться – любовь, и тогда, тогда - все может
вернуться на круги свои. Но почему, - как это возможно, ведь
люди вовсе почти не знакомы, да можно ли вот так, запросто
относиться к суверенному достойному человеку, к женщине, можно
ли верить вообще во всю эту чушь нам, живущим в этом культурном
мире, в Европе века XX?
Мир, в котором есть преемственность
(родители-малыши), культура (герой, писатель),
сад, как образ природы, живительный для этих людей
(пейзаж вокруг дома), и др., - сосуществует рядом с мистикой и
главное с мистиками, - и существует во многом вопреки себе,
своим культурным ценностям, но благодаря внешним, вторгающимся и
необъяснимым из него импульсам. Здесь обычная, вечная тема
хаотического первоначала природы, "невыведываемой мистики
природы", содержащей внутри, в глубине этого первозданного
начала изначальные же человеческие ценности, являющие начала
также и для всей, для всякой культурной задачи, парадигмы,
ценности. Но с этим можно всегда поспорить. Может быть как раз в
этой нерасчленяемой первоглубине природы, в ее
до-рациональном "нечто", настигающей и настигающей человека,
причина всех хождений по кругу, причина того вне-человеческого
зла, образующегося в конце - культуры, деяния, жизни
человеческой?
Андреем Тарковским, несмотря на постоянные репризы и
монологи героев о состоянии и назначении культуры, сам
рационализм понимается во многом по-восточному - однобоко,
выхолощенно, тогда как иррационализм понимается как питательный
источник всего и вся, - жизни, ценностей, самого рационализма.
В фильме множество восточных аллюзий, от инь-янь на спине героя,
до восточного дерева на берегу северного моря (дело происходит
где-то в Швеции. Отсюда пристальное внимание к мистике у него на
протяжении всей творческой работы. И здесь жертва - почему,
кому, ради чего? Чисто статистически, весь фильм разворачивается
как очередной случай мистического совпадения, которые
коллекционирует почтальон-мистик. Да, человек начал приносить
жертвы - и вот он проснулся и все изменилось, жертва оказалась
угодной Богу. Сто какое-то доказательство существования мистики
и мистичечских совпадений сотоялось и глаза прибитого
цивилизацией человека расширились, если не округлились?
Взамен "мистические совпадений" можно употреблять
выражение - "символическое бытие", как у Флоренского, однако у
Тарковского мистицизм слишком отделен, продолжая сравнение с
Флоренским, - от церковного христианского предания, он слишком
самодостаточен, существуя наряду и в соотнесении с фактами
культуры, такими как ценности цивилизации, свободы, природы,
наследования ценностей, а не в соотнесении с Откровением Божиим,
что есть в православной теодицеи Флоренского. Поскольку
Откровение Божие принципиально не мистично, но принципиально
морально, оно понимает человека как существо прежде всего
моральное, но не только по-преимуществу "иррациональное", оно
видит и ищет для человека свободы этой, а не свободы от рацио
только. Мистический реализм о.Павла коренится на библейском
откровении о повреждении природы человека и христианском
благовестии о Истине спасения человека во Христе Иисусе. Здесь
мистика – не в рассматривании недостаточости наличного бытия,
не в обнаружении видимых зрительных символов связи всего со
всем, но в реалистическом утверждении, я бы сказал, в крестном,
жизненном утверждении той духовной наличности, которую однажды
уже открыл нам Бог.
53.
(продолжение) 0. Знакомьтесь, «Рационализм» – старый
выносливый Росинант европейской культуры. Бегство от "рацио",
как и следовало ожидать, проявляется в рационализации тех
установок, которые представляются "убежавшему" от них всецело
иррациональными. Так это в восточной идее в целом, сводящей
мышление и ум к рассудочному и причинно-следственному, так это в
европейском увлечении достоинством мистического и запредельного.
Тарковский режиссирует где-то на этом уровне. Культура - плоха,
раз есть войны, первоисток жизни и бытия человека не просто в
природе, с ее хаосом и бесчеловеческой "мутнотой" между жизнью и
смертью, но в постоянном и непрестанном возвращении, обращении к
ней как к центру, как к направляющей в культуре задачи, задачи,
делающей ее культурой человека", а не "культурой для человека"
которая остается в историческом мире и вырождается в
"цивилизацию"... (Л.Толстой видел его в природе простого
труженика, с его упрощенной психикой, и в народности в целом, -
мне интересно, что Л. Толстого заставляло не материться налево и
направо за семейным столом?)
54. (продолжение)
Тарковский использует символы культуры ради конструкции из них
вне-рациональных входов и выходов, ради "мистических
совпадений", открывающих человеку иные, вне-рациональные пути
свершения. Но не слишком ли много внимания борьбе с рацио, за
которой видится какая-то паническая боязнь или неспособность,
некрепкость современного европейского мышления, в его общем
обстоянии? Вот опять же понимание жертвы: герой приносит в
жертву все самое ценное, малыша (его помешают потом в
псих-больницу), дом (сжигается), респектабельность культурного
отношения (сунулся ночью к соседке старый человек, глава
семейства), и видя утром, что жертва оказывается угодной Богу
(войны больше нет) он продолжает жертву, продолжает приносить в
жертву все ранее обещанное, названное, "приговоренное к ней", -
а ведь начальный смысл всякой жертвы, европейский смысл жертвы -
в том, что жертва может быть не принята! Если мы приносим ее
Богу, живому и все-достойному Господу, Он волен не принять
жертву, которую мы - считаем достойной принести Ему! И более
того, вся высь христианства как раз в том, что практически все,
все деяния, и все решительные движения наши, недостаточны, и в
каком-то смысле не-угодны, не-достойны полноценной жертвы - ибо
Бог, как прежде всего Духовный Бог, просит главного - от
человека - "жертва Богу дух сокрушен..." Это, дух сокрушен,
оказывается той бедной духовного, которой и в которой и
созидается "достаточность жертвы", где открывается и оказывается
возможной эта жертва. Бог - протягивает человеку из этой бездны
- твердую верную руку свою, и человек протягивает Ему даже не
руку, ему важнее весь лик, дух свой обратить к Богу. А уже и
руку, и жизнь свою в том числе
55.
Внутренняя логика жертвоприношения героя. Режиссер
конструирует иррационалые мистические выходы в качестве
живительного исхода и кинематографическое пространство - язык
такого конструирования... Можно проследить и само это
конструирование, открытые нам – предельно рационально – связи
такой конструкции. «Конструкции жертвы».
Во-первых, в состоянии не столько решимости, сколько
отчаянности и невозможности что-то делать и как-то делать, - за
окнами начинает разыгрываться третья ядерная мировая война, -
герой обращается в молитве к Богу и просит Его быть услышанным,
он молится о ниспослании мужества людям, испытывающим сейчас
нечеловеческие страдания, а также уверяет Его в том, что готов
отдать Ему, принести Ему в жертву все то, чем он дорожит в этом
мире – а дорожит он дружбой с малышом, родными своими, и этим
домом, купленным на заливе в минуты жизненного счастья, этим
живым, родным символом соделанного земного человеческого
счастья, Именно доведенный до отчаянности и безвыходности, он
обращается к Богу, и так же исступленно, пристально, начинает
ожидать от Бога какого-то ответа, отклика, отзыва. (Конечно,
предельный мистицизм кино Тарковского сплошь католистичен,
и тут и в «Ностальгии», и даже в «Рублеве», - опыт выраженного,
иступленного контакта с Богом, имеющийся в европейском
мистицизме, хотел он или не хотел, явно или не явно, прорывался
с кадров Тарковского. В данном случае то, что для фильма
«Жертвоприношение» была выбрана Швеция и фильм ставила
Стокгольмская кино-академия, лишь облегчило художнику и
выстраивание художественного контекста, и обретение возможно
более близкого культурного отклика.)
И герой находит, получает известие о возможности жертвы -
от мистика, от почтальона, тот не объясняет происхождение своего
тайного знания об этом, это становится не столь и важным, в
свете только что совершенной молитвы героя. И факт открытия от
духовидца - совершителю, - мистического знания, происходит.
Почему же будущий совершитель жертвы, герой, принимает, слышит и
верит духовидцу? Почему?
56.
Остановимся на минуту, помедлим здесь вот у какого вопроса:
Что же все-таки убеждает героя в том, что он – совершитель
спасительной жертвы, «священник», что дает силы ему -
действовать? Во-первых перед самым разговором с почтальоном
герой уже обратился с просьбой о жертвах к Богу. И поэтому
уже ждал ответа. Но, спросим себя мы – это ли не исступленность,
то есть какая-то неестественная горячность, внезапная быстрота,
малообъяснимое рвение, - которой обыкновенно не случается,
просто не может быть у людей верующих постоянно, всею жизнью,
хуже ли лучше ли, - но идущими по пути к Богу, порою сбиваясь с
него, и снова вставая на дорогу, - не теряющими Свет этот в
жизни своей, старающимися не утерять ибо он свет единственный,
яркий ли этот свет «теперь» или не столь яркий. Когда среди
светского, безбожного существования, внезапно открывается этот
Свет – да, это вспышка, это болезненная исступленность
религиозного адепта, неофита, исполненная чрезмерность оценок и
неопытностью, идеалистичностью духовных потенций. Этой
исступленностью невозможно жить в Боге – с нею можно лишь узреть
Бога, его резкие черты, огено-дохновенные и определенные контуры
царства Небесного. Невозможно, двигаясь к Богу, идя по пути,
ежедневно менять машрут и самое представление о Цели. Тот
истошный, исступленный вопль, с которым герой фильма обращается
среди своего отчаянного положения, к Богу, - решение
апокалиптика, католического мистика, внезапно узревшего всю
истину, но это не продолжение разговора, не обращение к своей
духовной родине, всецело трезвенное и всецело мужественное.
Бегство, отчаяние и исступленность влечет героя к Богу – отсюда
суматошный поиск быстрого ответа от Бога – и такой же суматошное
его нахождение – появление почтальона-мистика с требованием
переспать с женщиной, живущей на окраине озера. Объяснение при
этом поверхностно-мистично, для него оказывается достаточно
бытового иррационализма: «я все понял о ней: она – ведьма».
Во-вторых, героя убеждает ни что иное, как -
отчаяние и безвыходность любых иных действий и действий вообще.
Герой оказывается, загнанным в угол, в тупик, молитва о жертве и
знаки к совершению ее, оказывается практически единственным, что
еще возможно и что оказывается, возложено на него. Но что же
стоит за пониманием и ответственным выбором таковой
единственности как не тот же самый низвергаемый режиссером
рационализм! Иррационализм у режиссера обосновывается – не
смыслом самого поступка, а достоинством иррационального как
такового. Но для европейского cogito
уже три-четыре века обоснование иррационального не
вне но внутри самой рациональности – типичнейшая,
исходнейшая апория рациональности как таковой, и эта
первейшая философская парадигма никак режиссером не прощупана,
не углублена, и оказывается таким образом вовсе не воспринята.
Тарковский говорит только – о рациональности культуры,
рациональности тех или иных поступков, он эстетик культуры,
желающий эти поступки изменить. Всмотреться в смысл самой
рациональности он не в состоянии. И это к сожалению.
«Магнетизм»
поступков человека, общественного бытия как такового, требует
пристальной их переоценки и отчаянных усилий по преодолению,
перестройке, столь же несвободных от них, сколько обреченных на
неудачу в конце своем. Человек призван в бытие в своей
рациональности – так уж сложилось, ответим мы Андрею
Арсеньевичу. А раз это так, давайте всмотримся в жупел
рациональности попристальнее, в эту самую «тьму рациональности».
Отбросив ту внешнюю ее сторону, диктуемую, навязываемую нам
нашим бытом, культурой, воспитанием. И тогда мы увидим
неоднозначность ее, или вообще от нее ничего не останется, кроме
возникающего здесь вопроса: «зачем и кому я это делаю?» Что
напрямую связано с вопросом: «Что есть мы, - что есть природа
человеческая»? Может быть суть человека все-таки принципиальная
возможность морального выбора, и значит человек есть моральное
существо, которому – Боже мой! – свыше приуготовили божественный
удел? Может быть – так? Но это надо понять, и приняв Бога, и
себя перед Ним. Тарковский же, думается, далек от такой
чисто-моральной антропологизации, он изначально уже
воспринимает человека, - как уже готового, рожденного
хаотически-безгрешной природой уже человека, призванного
к культурному творчеству, человеческая нравственность для
которого только скрепы непреходящей красоты какого-то постоянно
реконструируемого перво-человечества мистиков. Тут для режиссера
творческое лекало и свидетельство человеческого – не моральное
творчество как деяние перед Богом, но культурное творчество -
перед культурой человечества соответственно и перед людьми
(таким образом перед людьми в культуре или остающимися вне ее).
57.
Внутренняя логика жертвоприношения героя. Продолжение.
Далее – герой, как священник, приносит жертвы, одну за
другой, причем удостоверяется в том, что жертвы оказываются
угодными Богу - война наутро, после ночи проведенной с женщиной
живущей на том краю озера, исчезает - и продолжает их приносить,
сжигая и свой дом в выполнении собственного слова. Почтальон -
инициатор, провидец тайного, он увидел как должна быть сделана
жертва. Герой, священник, он должен созелать, явить эту жертву.
Женщина, с которой он должен переспать, - некое начальное орудие
его жертвы, своего рода вместилище ее, хотя сама женщина плохо
понимает, что к чему, она только женщина, может быть предельный
образ ее, она просто, сильно и глубоко способна полюбить и
почувствовать другого человека (я допускаю даже почти полное ее
неучастие ее сознания в том, что происходит, когда женское тело
– орудие, священное вместилище жертвенного процесса, когда ее
тело отделено от самой женщины, от сознания ее, и тогда это уже
очень языческое, гречески-жреческое отношение жрицы в тех же
древних святилищах в честь богини Афины во время).
Сжигаемый любимый дом на краю залива – завершение, финальная
часть жертвенного деяния. После этого герой завершает
жертвенные приношения, хотя, то что он сходит с ума, является
полным ее окончанием и таким образом сокрытием ее с глаз
культурного рационализированного человечества. Но сошествие с
ума, быть может спасительное для героя, продолжающего жить,
ниспосылается во многом на него свыше, как опять же принятие и
закрепление Богом совершенной героем-священником жертвы.
Интересно, что угодность, принятость Богом жертвы
постоянно показуется герою убеждая его в неизбежности
дальнейших действий. После просьбы, моления к Богу, о жертве –
появление почтальона с требованием идти к женщине, к Марии,
которая одна только может все спасти и вернуть миру спасение.
Наутро после связи с женщиной, когда герой видит, что атомной
войны за окнами больше нет, свет и радио работают все вернулось
на круги своя. Как и следует, с утра он пишет записку, отправляя
своих родных прогуляться, что вполне естественно, и остается сам
незамеченным, и сложив на террасе стулья для устройства
костровища, находит где-то спичку, - все удивительно
устраивается как раз к тому, чтобы продолжать совершать жертву,
обещанную Богу, и кострер разгорается, дом сгорает. Наконец,
помутнение рассудка у героя, после сожжения дома. Естественная
дань проклятому и немощному рацио - что стоит этот ум, с
его оглядками, если мир спасает отчаянный и ничем не объяснимый
поступок! Ум, рассудок героя в конце фильма, тоже приносится
таким образом в дар, в жертву, - и по-видимому, как считает
режиссер Тарковский, в жертву благоугодную, принимаемую.
Со стороны все это выглядит, как двое праведников,
жертвуя собой и своим в этом мире, спасают его, - но для чего ?
Для того ли, чтобы он продолжал влачить свои немощные круги,
свои "цивилизационные круги ада земного", убивая первозданную
природу, «мистические тайны первоприроды» и далее, продвигаясь
таким образом все к той же атомной катастрофе, пусть немного
отсроченной, но уже без их участия - ведь герой-то теперь сошел
с ума, полностью переселился в миры истинно-мистического,
"полноты" человеческого существования, в психбольницу?
58. Внутренняя
логика жертвоприношения героя. Продолжение. По этому
контуру взаимоотношений героя-священника и «мистических» знаков,
подаваемых ему извне, и представляющимися для него указаниями
Господними, видно, как сам жертвенный процесс становится
предельно рационализован. Кажется на первый взгляд, что жертва
должна быть совершена, не смотря ни на какие (рациональные)
внешние оправдания? А вот получается и смотря: кругом катастрофа
ядерной войны. Катастрофа – заставляет героя и обратиться к
Богу, и исступленно искать ответов на предложение жертвы. Чем в
конце концов почтальон убедил героя в том, что надо идти к
женщине? Последней надеждой на абсурд, больше ничего не
остается, только это, - нечто иррационально-изначальное,
женски-материнское, первородящее, таинственное. И герой,
разговоривая с женщиной, все глубже припадает к этому источнику,
к милости этой простой женщины, Марии, и она внезапно милует,
нисходит из ничего к нему, своей сострадающей неизмеряемой
любовью женщины, нисходит к его исступленному, необъяснимому
страданию.
Почему эта воронка закручивает героя, почему он
оказывается способен к такому абсурдному с точки зрения их
общественных отношений, поступку? Да ведь и сам герой всячески
заклинает цивилизацию, например, в начале фильма, когда герой
сидит прижавшись к стволу дерева в роще, так что даже теряет из
виду малыша. И сам герой склонен ко всяческой гаромонизации в
природе, к гармонии мужского-женского например, и т.д., как
альтернативе, противостоящей кошмару цивилизации, с ее
беспомощными фактами культуры, как живительный источник
человеческой жизни. Для него поэтому заклятие рационального,
приведшего мир к катастрофе наглядно, вокруг война, - во многом
естественно и к тому же единственно возможный видимый исход,
поступок идти и склонить к любви указанную почтальоном-мистиком
женщину! ( То же, что формулой рациональности является как раз
«единственно-возможный, логичный выход», "умная необходимость",
- он увидеть и признать вместе с режиссером не может !)
В случае с женщиной, к которой он отправляется спасать
мир, не очень актуальна, повторимся, моральная составляющая в
"этой части жертвы". Если женщина «используется» как орудие, то
есть живой человек уговаривается к слепому соучастию в некоем
действе, спрашивается, а могли бы быть и другие варианты жертвы,
например, «надо грабануть банк, ребята, и не спрашивайте меня
зачем»; «надо зарезать того человека, он всячески достоин
этого», как "достойна смерти" старуха в "Преступлении и
наказании".
Кстати, почему Тарковский так и не взялся за произведения
Достоевского? Достоевский высказывал душу жертвенных персонажей
своих, Тарковский же показывал, внимательно осматривал ее же,
душу, в деталях, на фоне, в над-человеческих символах, - это во
многом профессиональная разница художников - разница между
писательским словом и режиссерским глазом. Для Тарковского у
Достоевского было слишком много человечского, ему надо было
пощупать, ощутить не человеческую достоверность, а достоверность
живописного целого. У Тарковского всегда гармонический пантеизм,
разлитый в человеке, и передаваемый зрителю, у Достоевского
всегда человек, противопоставленный человеку же.
59.
Знакомьтесь, «Рационализмь» – старый выносливый Росинант
европейской культуры. Продолжение. В
заключение разговора о «обусловливающей культуру
рациональности», которую довольно внешне,
спиритически-эмпирически опровергает в своих фильмах Андрей
Тарковский, хочется отметить еще один аспект
рационального-нерационального, которого приходится касаться,
если мы пробуем как-то понять сам смысл всякого
жертвоприношения.
А именно, то значение жертвы Богу, по которому она не может
быть Богу навязываема, иначе превращает самого Бога в
несвободное, служебное нашей жертве «соучастное существо».
Жертва богу всегда подразумевает дар человеческий и
несовершенный, а такой дар не может требовать для себя
полнейшего почтения и божественной необходимости, если только он
видит и отдает отчет в этом своем несовершенстве, (греховном,
как определяет его христианская традиция). Жертва – всегда
молитва, это всегда переступаемая между человеком и Богом бездна
различия, бездна меж тьмой и светом, переступаемая смиренно, но
не властно. Поэтому самая совершенная жертва человеков, конечно
же, есть жертва хваления Богу, -здесь, в Свете, в ясности дел и
славы Божией, радость преумножается радостью, и приносимый богу
дар благодарения и радости за всех и за вся – максимально не
поврежден человеческой косностью и самостью. Для такового
приношения Бог ведом и Бог видим, а человеческое бытие освещено
светом горней евхаристии, полнотой сотрапезничества со Христом.
«Рациональный» в том ругательно-приземленном контексте,
который этот термин приобрел у адептов восточных религий, как
впрочем и у многих критиков-христиан, не говоря уже про
писателей-эзотериков, значит: вынужденный, преопределенный
бытом, обществом, привычками, науками и т.п. То есть –
рациональный смысл означает культурно осмысленный и культурно
оправданный смысл.
Герой в фильме Тарковского, вместе с режиссером, пробуя
выйти из-под власти рационально-обреченного к мистическим связям
в природе и природе человека, никуда от нее вырваться не только
не в состоянии, но все вокруг героя становится еще более
рационально-насыщенней: поскольку рационализм вошел в плоть и
кровь всего жертвенного деяния. В ходе «жертвоприношения»
рационализм изъясняет и объясняет герою необходимость
каждого последующего жертвенного этапа.
Жертва, - внешним миром, для счастья этого мира, из
него, - оправдывается. Она полностью рядом взаимосвязанных
логически-рациональных событий – направляется. И все
возвращается на (дурные ли или не дурные?) круги своя, «счастье
мира» вновь восстановлено, и зритель понимает, что к чему, - все
рационально сходится, вот только герой в психушке, но и это всем
знакомо – сколько их там, в психушках, героев этих…Зрительный,
видимый мистицизм вещей – есть только края, грани видимого
глазами нашими, само по себе это еще не иной мир, и поэтому еще
не подлинная мистика того, что есть. Внимание глаз, искусство
режиссерского глаза и его внимание к связям культуры, это только
внимание, и только движение внутри культуры, не более того.
В начале века XX русские
авангардисты, в лице Малевича, Кандинского, смело устремили свое
художественное внимание к границам вещей и за них, и были
достигнуты значительные открытия в художественном искусстве, с
возможностью художественного зрительского восприятия форм, цвета
и содержания написанного на картине. Они отказывались осмыслять,
как-то понимать это нащупывание границ вещей, ибо получалось у
них воистину что-то апокалиптически оправданное, не приводимое к
привычным реалистичным конструкциям.
60. (окончание)
Апофатические
выводы. Результаты – и намерения. Искусство Андрея
Тарковского, живописно почти самодостаточное, пробует говорить –
а между тем сказать картине нечего, возможно только показать.
Видит не глаз, видит – ум, (и не разум только). И убрать эту
великую дистанцию невозможно. Сводить умное видение – к только
созерцанию - нельзя. Глаза видения, просвещаемые, омываемые
светом истины, - от ведения. И от всеведения, в конце концов.
Но сама видимость – как зримое - ни о каком ведении, ни о
какой истине не ведает, оно сразу же удостоверено в очевидном
конкретном присутствии видимого конкретного материального бытия.
Можно говорить что хотел сказать, сделать Андрей
Тарковский, я же позволю заметить здесь то, что у него
получается, получилось, – и прийти к таким выводам: искусство
Тарковского, с его регулярным, настырным конструированием
зримых, ощутимых мистических связей в кадре, как будто говорит
языком кинематографа, что видимость - есть только
видимость и больше ничего. За любым реализмом – всегда
зримо обнаруживается иное, ирреальное. Вы знаете и падки на
такую пошловатую приблизительную вещь как мистицизм
парапсихологии и спиритизма? Отлично, пусть так, живите с этим
(искусство кино вас не перевернет) и ешьте все это вдоволь –
только присматривайтесь внимательно, - вместо крутого
реализма кругом самый настоящий мистицизм, и наоборот! А значит
никто, и ничто не видит: видимость – только видимость!
А значит – (вот оно главное и важнейшее): ищите далее и выше
– этой «видимости». То есть?...То есть… А как вы думаете? –
Думайте!
61. (набросал
на одном форуме, здесь немного развил, - речь там шла о том
каким был В.И.Чапаев на самом деле...)
Фурмановская книжка конечно,надо сказать, типичная
советская агитка, литер-халтура ниже среднего. С фильмом все
понятно, "стрелялка" для довоенных мальчиков, в рамках общей
компании милитаризации подростков 1930-х годов. Советской
идеологии надо было, чтобы в Красную армию шли убивать/защищать
не просто так - а еще и с романтическими (после просмотра фильма
"Чапаев") чувствами. И это тоже все понятно,для того и работают
милитаристские идеологии, и работали, чтобы сильный молодой
человек с воодушевлением и чистой совестью мог взять в руки
штык и всадить его в сердце другого молодого человека по самый
ствол. Самое интересное конечно не все это, а третья тема, тема
"любви народа" к Чапаеву в анекдотах. Это самое удивительное -
советский народ в анекдотах по Чапаеву в застойные времена - как
будто "смотрелся в зеркало".
Чапаев в анекдотах - представляет этакого безграмотного,
упрощенного порою до идиотизма, но подчас и находчивого, непоср.
командира Петьки. Анка, третье лицо, привносила обыкновенно
пошло-сексуальную сторону в мужские должностные отношения
Чапаев-Петька, это и понятно. Для полноты, отношениям
начальник-подчиненный добавлялся секретарь-посредник, и малое
предприятие, малая боевая единица, - готова к бою/труду. Женщина,
Анка, - восполняет командые отношения, но не становится центром,
смеховым центром анекдота, оставаясь его фоном, и функционалом.
Центром всегда остаются идиотические чапаевские находки, "якобы
народные"(сравните беззлобное отношение обывателей к старцам из
Политбюро СССР, - стариков в народе ценят, любят, никто не
виноват, никто ни за что не отвечает, и это хороший повод снова
выпить, и т.д. т.п., "Брежнев - добрый дедушка". И др. Вот этот
народ, возникающий за Чапаевской смекалкой, того же "рода", из
предоставленных самому себе обывателей, коим ни жить не дают, не
поворовать толком не дают...
Чапаев-Петька - более сильная анекдотическая связь:
безграмотный начальник - и бесправный подчиненный. (Она и задает
последовательность вплетаемых в нее "апорий": Безграмотность -
исток изощренной народной смекалки. "Я начальник ты дурак, ты
начальник я дурак." Чем человек проще, тем меньше ему надо в
этой жизни. И др. Безграмотный - тот же поэт: недостаток слов и
норм речи он восполняет собственными словообразами (советское "ничевочество"))
. И другие.
В застойные времена экстремальные проблемы решались
сходным образом и "анекдоты про Чапаева"Чапаев стали
общепонятным "кодом", за ними сразу же вставал как живой
собственный туповатый начальник-сиделец, суетливо исполняющий
вышестоящие указания, полу-безграмотный но не лишенный т.н. "человечинки"
или "простоты"( даже находчивый когда совсем "припирает"). В
этом плане рассказчик анекдотов мог посмотреться в этих
забавных ситуациях на себя со стороны - он занимал там место
Петьки.
Так что анекдоты рассказывались во всю, в советских
отделах и учреждениях, - именно в 1970-е. В эти времена
приходилось выполнять множество глупости, формальности, и просто
невозможных задач поставленных туповатым начальством своему
отделу. Надо сказать, что, поскольку в гремучем идиотизме сов.
бюрократии значительный кусок составляла советская
ленинско-брежневская идеология, чапаевские анекдоты в те годы
СССР пользовались куда большим успехом чем пользуются теперь. В
наши дни идеология уже не столь маразматична, хотя сама
бюрократия никуда не делась, и анекдоты про Чапаева современные
бюрократы пересказывают с не меньшим удовольствием.
62.
Вспоминая мысли М.М.Бахтина об искусстве. Есть такое
довольно избитое выражение:"Краткость - сестра таланта" (такая
мгновенная рецептура дара), - меня оно всегда раздражало своей
поверхностностью, но если раньше я мог смеяться над ней примерно
таким образом: "Ну разумеется, краткость сестра таланта, никто
не спорит, - да только Талант ей не брат, и никогда им не был.
Как такое возможно? Такое возможно, - он, как известно, от
Бога!" - Однако теперь я, может быть потому что, как мне
кажется, более отчетливо стал представлять всю сложность любого
творческого процесса, с вершины которого и эта фраза перестала
меня раздражать, но представляется также, теперь я бы мог не
только показывать недостатки ее, но попробовать рассмотреть само
место ее и скромную роль ее, в некоем действительном здании,
пробуя все уложить по полочкам. Искусство, любое, - оперирует не
только содержанием и формою, но и материалом - собственным,
конкретным материалом этого искусства. О материале неизменно
забывают во время подобных высокоумных рецептов. А ведь из
материала – и материалом оперируют, как-то оформляя вещь. Не
менее важно и то что у каждого искусства - опреденный этим
искусством материал (глина, слова, воск, камещки для мозаики,
музыкальный звук и т.д.) Давайте теперь посмотрим, что
получится, если упомянутый лозунг "краткость дескать, сестра
таланта" рассмотреть в этой более ясной связи между материалом,
формой и содержанием: сжимать формой содержание - это как
минимум не использовать возможности материала. А по сути это
означает не знание, нечувствие, незнание конкретных возможностей
материала.
Например, в области ваяния - смотрите – форма есть простой
размер скульптуры, и если она «все более кратка» - (поскольку
всегда «пространственна») – значит и все более мелка. Форма - в
скульптуре – если следовать данному призыву - вынуждена
уменьшиться уменьшив всю вещь искусства, однако чтобы знак этой
вещи сохранился, оставить от первоначальной вещи две-три черты,
существенных черты, скульптура т.о. обязана. Но это же
исключительно минимализм, японские принципы чистой геометрии на
полотне, разлиновка тем по плоскости(пространство тут избыточно,
плоскость его сразу же переигрывает и скульптурность «исчезает
как жанр», как форма искусства!. Я не хочу в данном случае
сказать что это плохо, но это один из сотни возможных подходов к
целостной скульптурной вещи! Или, этот прием ведет к примитивным
формам скульптуры, где части обретают механический «неживой» вид
(нежилой вид для материала – материал там не живет, а
размещается извне, подобно кирпичам в кузове, а не живому телу,
телесности…) и играют роль знака, аллегории, а не самого себя. В
последнем случае материал сведен уже не к частям, а к единице, к
новому единству в этом указателе на что-то иное. Материал уже и
вовсе уничтожается, выносится за скобки, (он явился чтобы
исчезнуть?) - что толку что это ваяние - если от возможностей
ваяния, с его преодолением пространства и массы формой, художник
совсем отказывается, используя принципы минимализма или знака?
(Повторяю – еще раз – вместо того чтобы знаком этим и другими
возможными – извлекать, облекать - смысл вещи – вещь сводится
или к знаку или к нежизненной механике частей.)
Содержательность вещи
дана как в форме, так и в материале! Вся вещь и сразу же – дана
в материале! Сжимать вещь скульптуры – значит до видимой
бесконечности сжимать ее форму, добиваясь содержательной
четкости и простоты, но возможно ли на самом то деле так не
уважать материал, не видеть его содержательные возможности? И
тут мы вынуждены сказать – никак невозможно! Мы не сможем
ничего сжать в данном случае! Только в теории! Вся скульптура –
состоит из материала. Что мы сжимаем? Глину – станем сжимать
совсем не так как стекло. А воск станем сжимать, добиваясь
содержательности, совсем не так как бумагу. Это-то очевидно!
Очевидно что материал определяет собою возможность вещи
применять ту или другую форму ничуть не меньше чем содержание,
т.е. смысл нами в нее влагаемый. Более того, материал вещи –
сразу всегда дан, он залан в ее форме, это начальная телесность
вещи, которой мы желаем предать форму, осмыслить ее содержанием,
- и только поэтому ускользает от оценки – можно сказать, что
материал – это собственная форма вещи, скрытая от нас – мы не
видим ее, она темна нашим глазам и нашему смыслу, - мы начинаем
мять этот темный материал чтобы придать ему наш, собственный наш
смысл и свет, пронизывающий форму – мы строим форму – нашу форму
– в данном материале. Но материал – есть данность, не видеть ее
значит не видеть форму, а не видеть форму значит не понимать как
этук форму мы может осмыслить, т.е. не видеть ее содержание и
возможности.
Так это и в др. видах
искусств. С материалом следует работать - в этом искусство.
Именно с ним. Тогда сразу же этот материал представится нам в
той форме, содержание которой нас так или иначе устраивает/не
устраивает! Только троединое отношение к вещи искусства и никак
иначе. Не замечаем материала – что же тогда? Мы сведем его – к
форме. И в нее станем "вставлять", "вдувать" содержание? Это что
же получится? А получится то, чего никогда и нигде не бывает –
чего нигде просто нет: ибо тогда смысл прочитанного у нас равен
смыслу увиденного в скульптуре что было бы идентично смыслу
увиденного на полотне и что идентично смыслу допустим
услышанного в музыке – но что существенно в выстраиваемом нами
тождестве: впечатление материала мы в нем обязаны снять – ведь
уже в разделении «музыка-словесность-живопись» мы различаем
разный материал искусства – так вот в этом случае полнейшего
отказа от присущих материалов, а не форм материалов – мы и
выйдем к чистому смыслу, где никакой вещи искусства нет и т.о.
искусства тоже. Оформление сплошной содержательности.
Оформление этой последней "чистой содержательности" как раз
бессодержательно – конечно, сравнивая то или другое впечатление
от искусства, мы непременно восходим к чистому смыслу вещи,
однако вопрос стоит так: если мы говорим о вещи – можем ли мы
отрываться от нее? Отрываться в нашем чистом уме – полностью,
например чтобы идти куда-то далее – от нее же? Выясняется при
пристальном рассмотрении, что нельзя: если я говорю и оцениваю
вещь искусства, она всецело и беспрерыно предстоит передо
мною, она перед моим умным созерцательным, оценивающим ее и ее
материальную структуру - взором. Если сравниваю ее с иными и
ухожу от нее к иному – значит сравниваю именно ее и ухожу именно
от нее – и значит она по прежнему перед этим самым моим всецелым
вниманием. Постоянно передо мною, и никак иначе. А если она
передо мною всецело и именно она, это и означает что передо мною
ее уникальностное вещное обличие, а именно материальное обличие,
уже далее оформленное материально и наконец осмысленное как
оформленная материально вещь. Созерцание вещи искусства - это
одновременное созерцание каждого из этих трех в остальных: это
созерцание в материале - формы и содержания. Созерцание
содержания в форме и в материале. И созерцание содержательной
формы материала. Каждый созерцается как единый особенный и как
данный в остальных, присущим им образом.
И наконец, еще следует сказать вот что. Дело в том что сам
теоретический анализ искусства, вещи искусства (вещного а не
абстрактного искусства), конечно же триедин, три-ипостасен если
угодно, но вся штука в том что весь этот теологизм, телеологизм
данного рода абсолютно несопоставим с собственно деянием,-
с демиургией, с теургизмом, или просто говоря - с творчеством.
Иными словами говорить на эту тему практически нечего, по
сравнению с тем как и что здесь возможно сделать. Количество
открытий на пути поступающего здесь лавинообразно, торжествует
практик. Тогда как рассуждающий об этом хотя и весьма
теоретически тонком вопросе, хотя и граничащем с искусством
тончайшей спекулятивной мысли, все-таки останется где-то в
области теретической практики, диалектического мастерства мысли.
И потому-то художник, что называется не рассуждает – его сразу
же охватывает тот самый порыв, умный и высокий порыв, возводящий
очи к горнему месту, не мира, но уже - неба, откуда даже
истинная логика творчества меньше чем это творчество способное
на ошибки. Даже способность и величие ума вместить в себя
наивысшую способность и тончайшее взаимодействие чистых
мысленных вещей, потенциально максимально творческих, - все таки
ниже чем их активное создающее, поступающее, действующее начало.
Теория ниже практиса. И в этом величие теории –
подчеркнуть величие практиса, и когда все увидели это,отступить
перед ним и перед художником в тень.
Боюсь только объяснения
мои никто не разжует кроме бахтиноведов. Это долго, или это
сложно, или еще что, а тут готовый рецепт про краткость таланта,
и главное – зовущий в бой, - сокращайте все и вся, - ваши мысли,
дела, время – давайте ценить время, господа. Давайте ценить наше
время. Наиболее драгоценное что мы имеем, пока имеем - время. И
поучимся краткости. Этого уже более чем достаточно, на
первый взгляд.
63.
О существующем принципе игнорирования неоплатонического
комментария в преподавательских методиках представления Платона.
Вообще, если отвлекаться от многих вещей, связанных с традицией
преподавания философии. В СССР, ранее и еще ранее. Тогда
действительно непонятно почему все проскакивают в преподавании
античности и Платона в частности мимо такой вот простой вещи,
простейшей логики, своего рода естественного историзма. -
Неоплатоники толковали Платона? Толковали. Они его толковали
несколько сот лет? Да, очень внимательно. Сами неоплатоники
создавали что-то свое, новое - помимо созданного Платоном?
Создавали, правильнее было бы даже сказать что они углубляли
Платоновскую мысль, хотя между собою и расходились в те или
другие стороны. Так. Спрашиваю я у вас - а наша с вами
собственная нам ново-еропейская эпоха философии - насколько
пристально толкует Платона, всматривается в него и в его
тексты?? Ну как-то всматривается - вот там немцы открыли
Платона и античность опять заново, это после итальянского
возрождения уже, и опять пошли переписывать в учебниках по
философии что такое идеи, что такое диалектика и что такое душа
у Платона, - иными словами, новоеропейская философия
интересуется Платоном да и всею античностью постольку поскольку,
- они где-то там, пусть на самом почетном месте, но где-то там.
И для ново-еропейской философии Платон - предтеча в самом лучшем
случае. Это всегда было и всегда будет в европейских учебниках,
изучающих европейскую же мысль. И вот спрашивается -
неоплатоники изучали Платона подробно и тщательно, европейцы
изучали Платона и будут изучать его всегда поверхностно и
свысока - так отчего же, отчего же хочу я вас спросить, - по
прежнему за изучением Платона обращаются не к глубине
неоплатонической мысли, а к поверхностным выводам европейских
учебников?? Другое дело что и самих неоплатоников также
задвинули подальше от греха. Но ведь это же невозможно, это
почти абсурдно - заниматься Платоном не учитывая как раз
тысячелетнюю традицию его изучения, а прыгая к нему - отсюда, из
европейской мысли. Когда от явления ничего не остается, кроме
легенды. Где-то можно понять еще преподавателя философии,
радеющего за целостность европейской философии и ее курса. Но
студенты, но горячие философские умы - должны бы видеть, где
оно, жемчужное зерно, где глубина непаханная и мысль
глубочайшая, когда они пробуют понимать Платона - у Асмуса
(специалиста вообще говоря по НКФ), - или в текстах
Плотиновых Эннеад? Или не нужен никому - Платон - на самом
то деле? Или думать не хотят, сложно очень? Все надо и разжевать
и посолить и подать. Но вот это мне всегда странно -
неоплатоникам в качестве комментаторов предпочесть тех кто занят
комментарием собственного современного философского обстояния!
Еще было бы туда-сюда, если бы указанные комментаторы Платона в
учебниках современной философии, ссылались или давали понять что
знают о существовании комментаторов-неоплатоников, - а то ведь
нет, как будто все там было незначительно и мелко, а вот они
сейчас, Чанышевы, Богомоловы или новые молодые Бугаи, без всяких
там неоплатоников проникают в самую суть, и все тут. Как будто
неоплатонизм - можно сгрести в кучу и под какую-то общую шапку.
Любой классицист восстанет против подобного всею душой - но
только не сочинители учебников по истории мировой философии. Для
этих - можно и неоплатонизм сгрести в общую кучу и задвинуть
подальше с глаз. И тут возникает законный вопрос: а чем же
неоплатонизм И вот им (не марксистам-ленинцам, а вот им,
современным нашим многомудрым составителям курсов и
преподавательских стратегий) так перешел дорогу, почему -
перешел? Что в нем - такого радикального, или - революционного -
для них, считай - для современного философского школьного
сознания? Сложен он? Да вроде бы и нет - сами они во всяком
случае показывают всем видом своим что заняты вещами куда более
тонкими чем неоплатоники. Неоплатонизм именно абсолютно им
чужероден, абсолютно. Принципами - комментария, оценки знания, и
возникающим за всем этим. Например - апломбом строгой научности,
которого до сих пор старается придерживаться философская наука:
"Если я ушла, отошла от принципов позитивизма и спекулятивизма",
- как бы говорит нам она всем теперешним состоянием, -
"Это вовсе не означает что я подошла к вопросам религии и веры
хотя бы на один шаг ближе. Я по-прежнему не впущу их в себя, как
моветон в моем цеху рациональных феноменов человеческого
мышления!" Но неоплатонизм как раз пронизан всем этим - а
поступиться принципами бесконечного рационального
разжевывания современный философ-преподаватель не в состоянии,
не потому ли в частности и неоплатонизм остается в яме и будет
там, покамест философы носятся со своими новоевропейскими
парадигмами и новоевропейскими де потребностями а-ля принц
Гамлет: "подумать или не подумать". Но тогда - тогда для любого здраво
мыслящего, свежего человека, а философа и тем паче - возникает то самое
философское любопытство - то самое философское удивление данным
вопросом и здоровое желание разобраться в навязчивой фигуре
такого умолчания, в том что такое собственно неоплатонизм, как
он видел и что он видел в Платоне, какова же фигура Платона в их
свете, в чем разница между ними и почему и заодно - что остается
от европейских прицелов по этому поводу... И что же тогда увидел
бы подобный вопрошающий - а увидел бы он печальную картину - на
фоне той горы, той действительной высоты, которую создает
поздняя античная мысль, - какие-то болезненные патологические,
телесно-механические рецидивы содрогающегося от конвульсий внемысленного дряхлеющего в лоне цивилизаторских скрепок и
установок, ново-европейского ума, заходящегося фонтанами спермы
от одного только осознания что очередной раз превозмог сам себя
и прорвался сквозь собственный свой жупел во что-то еще более
диковинное, но чем еще предстоит ему позаниматься ближайший
отрезок своей истории... Читатель такой, с брезгливостью даже,
отложит тогда корпус сочинений этих современников своих в
сторону, и займется тем чем и должен заниматься философ - он
начнет думать (а не придумывать новое определение данному
процессу как всегда извне и со стороны). И корпус
новоевропейской философии посыплется точно карточки или
карточный домишко. Вот - естественная логическая, если уж не
философская реакция: задвигаете неоплатоников - но почему? Что в них
такого, особенного, есть? А подайте-ка мне их сюда! Посмотрим,
что тут от меня прячут-с!! Но нет. Все вышеуказанное оказывается
неочевидным. А торжествуют какие-то вывихи, выверты, Платона
изучают не через платоников, и почему это так, никого не
интересует, - такой вывих современная философия называет
приемом, рефлексией, и заплывает от собственной философской лени
и лени своих адептов-учащихся и подвизающихся на ее стезе.